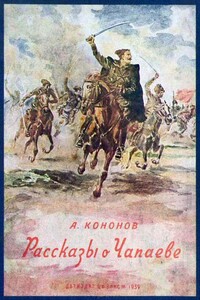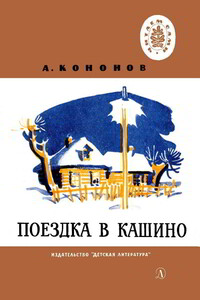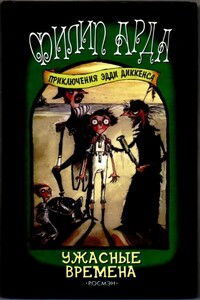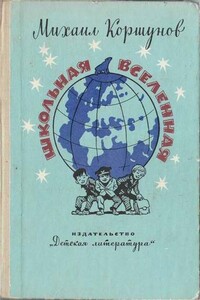Поселился Григорий Шумов на самом краю Васильевского острова, у Черной речки.
Вода в речке и на самом деле была черная — то ли от торфа болот, среди которых совершала она долгий свой путь к Петербургу, то ли от стоков фабрик и заводов, выстроенных неподалеку.
За Черной речкой начинался другой остров — Голодай, даже по названию своему — место невеселое.
Жилые дома отапливались здесь дровами, освещались керосином, заселялись больше мастеровым людом. И квартиры в них были недорогие.
Именно по этой причине Шумов и решил снять комнату в одноэтажном домике, выходившем на земляную, огороженную бревнышками набережную.
Стоять бы такому домику где-нибудь в Калуге или в Лебедяни. Да и на селе он не был бы чужим: деревянные его стены почернели от долголетия, наличники на окошках повыкрошились, ворота покосились.
У ворот Гриша увидел молодую женщину в ситцевом платье, с накинутым на плечи пуховым платком; она стояла совсем по-деревенски — сложив руки на груди и глядя на улицу.
Гриша невольно замедлил шаг — так она была хороша и с такой безнадежностью смотрела прямо перед собой большими черными глазами.
У него сжалось сердце. Чем обидела судьба эту красавицу?
Марья Ивановна, хозяйка трехкомнатной квартирки, в которой поселился Гриша, ответила на его вопрос коротко, и как-то нехотя:
— Эта то? Даша, жена мастера со швейной фабрики, они тут, во дворе, живут.
Марья Ивановна, крошечная и необыкновенно подвижная старушка, жила тем, что сдавала все три комнаты, — с мебелью и самоваром — жильцам, а сама обитала на кухне, в пространстве между русской печью и ситцевой занавеской.
Соседями Гриши оказались: за одной стеной — портниха-эстонка, существо одинокое и безмолвное, а за другой — токарь Трубочного завода Тимофей Шелягин.
Виктория Артуровна — так звали портниху — отнеслась к появлению Гриши сурово, смотрела на него молча белесыми беспощадными глазами и даже на «доброе утро» не отвечала. Впрочем, скоро выяснилось, что она глуховата.
С Шелягиным Гриша познакомился не сразу.
Однажды, уже поздним вечером, токарь чуть слышно стукнул в Гришину дверь, вежливо извинился за беспокойство и попросил книжечку — почитать.
— Пожалуйста! — обрадованно воскликнул Шумов.
Токарь ему нравился: одетый с той несколько даже щеголеватой опрятностью, которая вообще отличала коренных питерских пролетариев, сухощавый, с пристальными, зорко глядевшими сквозь очки глазами, с аккуратно подстриженной бородкой-клинышком, он мог бы сойти и за рабочего, и за учителя. Только очки у него были в железной оправе — учитель таких не надел бы.
— Вот, — слегка конфузясь, показал Гриша на свой стол, где лежали книги (их было очень немного), — Леонид Андреев, Анатоль Франс… Ну, а тут учебники, вам неинтересно.
Шелягин осторожно взял со стола самую толстую книгу. Эти была «Политическая экономия» Туган-Барановского, университетский курс.
Он подержал ее, не раскрывая, на темной от металла ладони, покачал, как бы взвешивая, и вдруг рассмеялся беззвучно:
— Резвый господин! Как он тут с Карлом Марксом разделался, в одночасье, на полстраничке петитом.
Гриша не мог скрыть свое удивление:
— Вы читали «Политическую экономию»?!
— Пришлось как-то… — ответил Шелягин, — случайно, на досуге. А чего-нибудь другого, подходящего для нашего брата, не найдется?
— Всё тут, — виновато развел руками Гриша и, заметив взгляд, которым токарь внимательно окинул комнату, добавил: — Нет, книжного шкафа у меня нет.
Не только книжного — никакого шкафа в комнате не было. Вся обстановка, кроме стола, состояла из старенького, должно быть, столетнего комода, двух стульев и обитого продранным сатином дивана, служившего Грише постелью.
— Ну что ж… Спасибо, почитаем Анатолия Франса, если позволите, — проговорил токарь и ушел, тихонько прикрыв за собою дверь.
Через неделю он вернул Франса и книг больше не спрашивал.
Марья Ивановна рассказала Грише о Шелягине более охотно, чем о Даше: человек Тимофей Леонтьевич непьющий, женатый, семья у него проживает в Тверской губернии, он туда деньги шлет. Ничего, хороший человек, аккуратный.
Все жильцы у Марьи Ивановны были хорошие, все аккуратные, всех она хвалила.
Но особенное расположение она почувствовала к новому постояльцу. Причины тут были две: требующая чьих-то забот явная неопытность в жизни Григория Шумова и то, что он без споров согласился платить за керосин отдельно. С испокон веков керосин вместе с дровами и самоваром входил в общую квартирную плату. Но кто ж его знает, сколько студент просидит ночью за книгами?
Шумов спорить не стал: прост.
Нравился он Марье Ивановне и своей уважительностью: не позволял ей вносить самовар к себе в комнату, сам шел на кухню.
Уважительность Марья Ивановна оценила, но тут же про себя и посетовала: получался урон разговору.