Золотой век глины. Скульптурные группы из раскрашенной терракоты в художественной культуре раннего итальянского Возрождения - [3]
Поскольку лишь немногие краски переносят высокую температуру вторичного обжига, палитра росписи майоликовых изделий не очень разнообразна. В одном из трактатов середины XVI века названо лишь семь красочных тонов[2]. Тонкая деталировка изображения иногда производилась уже после вторичного обжига.
Вообще, традиция раскраски скульптур и рельефов восходит к античности. В искусстве готики полихромия в скульптуре играла не только традиционно-символическую и декоративную, но и натуралистическую роль, определяемую функциональной взаимозависимостью художественного изображения и цвета[3].
С распадом художественной системы средневековья связаны, по крайней мере, частичная «десимволизация» цвета, превращение его из абсолютной условности в художественный эквивалент опытному представлению о действительности. Декоративная и натуралистическая функции полихромии в пластике раннего Возрождения выдвинулись на первый план.
Скульпторам, создававшим новое реалистическое искусство, словно не хватало выразительных средств для создания эффекта жизнеподобия. Раскраска и цветные материалы использовались не только для украшения, но и для зрительной акцентировки мотива движения, тектонических членений, для выделения статуи на каком-либо фоне, среди других скульптур или в ограниченном пространстве, иными словами – для компенсации недостатка пластической выразительности.
Специфика применения полихромии зависела от вида пластики и, прежде всего – от особенностей материала. Когда материал обладал собственным красивым цветом и гладкой, блестящей поверхностью (как полированные бронза, мрамор), для достижения красочного впечатления не всегда прибегали к сплошной раскраске, ограничиваясь небольшими вкраплениями позолоты (мраморный рельеф с изображением Мадонны работы Антонио Росселлино, Флоренция, Национальный музей).
Мраморные портретные бюсты тонировались воском для придания поверхности лица и шеи натурального оттенка человеческой кожи (детские портреты Дезидерио да Сеттиньяно); подкрашивались волосы, глаза, губы (женский портрет Франческо Лаураны, Вена, Музей истории искусства; Бенедетто да Майано, портрет Пьетро Меллини, Флоренция, Национальный музей); краской и позолотой выделялись детали одежды (бюст Мариэтты Строцци, Антонио Росселлино, Берлин-Далем).
Подкраска и позолота помогали выделить отдельные необходимые детали, когда фактура материала или размещение произведения не способствовали пластической детализации («Алтарь Кавальканти» Донателло из флорентийской Санта Кроче выполнен из серо-голубого известняка, а орнаменты, волосы Марии и крылья ангела тронуты золотом; раскрашены и частично позолочены были некоторые статуи флорентийского собора).
В скульптуре из мягких материалов (дерево, терракота, стук) традиционная сплошная полихромия преследовала и чисто натуралистические (сьенская и южноитальянская школы деревянной пластики, североитальянские и флорентийские терракотовые скульптурные группы, восковые вотивные муляжи, скульптуры «вертепов» и вотивных комплексов), и имитационные (архитектурный декор, например, скульптура на фасаде собора Сант Антонио в Кремоне; «Магдалина» Донателло, Флоренция, Музей собора), и декоративные цели (особенно – при создании алтарных композиций, как в деревянных алтарях Фриули).
При помощи раскраски в дереве и терракоте имитировали бронзу и мрамор. Таким образом, цвет как бы сам становился материалом формотворчества: «Если тебе нужно сделать вещь, которая должна казаться золотой, серебряной или из какого-либо другого металла, выбери подходящие краски, которые создают видимость металлов, даже таковыми не являясь» (Филарете)[4].
Для ренессансной пластики терракота как материал имела совершенно особое художественное значение именно благодаря её натуралистическим возможностям: неограниченной пластичности и естественной ориентированности на полихромию[5].
Терракотовые статуи раскрашивались обычно полностью. Более того: не имеющий собственной художественной выразительности материал допускал, помимо сплошной полихромии, ещё и «комбинирование»: использование цветного стекла, тканей. Даже в моденском «Рождестве» Гвидо Маццони – одном из лучших произведений североитальянской терракотовой пластики – глаза Иосифа сделаны из стекла; а «Мадонны» из флорентийских «вертепов» (presepi) мастерской делла Роббиа задрапированы в ткани.
В эпоху Возрождения значительную роль в распространении терракоты как скульптурного материала сыграли не только её технические и художественные особенности, но и местная, национальная традиция. Мастера XV столетия возродили древнюю традицию терракотовой пластики, обратившись к сохранившимся античным памятникам, среди которых значительное место занимали этрусские.
Глава 1. Из истории терракотовой пластики
Этруски
По свидетельству Плиния Старшего, «изображать подобия из глины … первый изобрел в Коринфе горшечник Дибутад Сикионец…»[6]. Терракота была очень распространенным материалом античной пластики, а в Этрурии, где не использовался мрамор, – в особенности[7].
Успехи археологических изысканий XV столетия значительно расширили представления итальянцев об этрусской культуре. Собственно интерес к ней никогда не был для них чисто археологическим – он закономерен и естественен как интерес к своему родовому прошлому. В этом прошлом наиболее привлекательна была идея тесной взаимосвязи этрусской и эллинской культуры – версия Геродота о происхождении этрусков из Лидии считалась в то время неоспоримой

«Фотография – это ложь. Подумайте сами: фотографы создают двухмерные, зачастую напрочь лишенные цвета изображения и надеются, что все поверят, будто всё так и было на самом деле. Удивительнее всего то, что люди клюют на это с необычайной легкостью, словно желая быть обманутыми. Более того, они упорно верят, что сфотографировать можно только то, что на самом деле находится перед глазами. Зритель – ленивый эгоцентрист, не желающий тратить ни одной лишней секунды на то, что ему кажется неинтересным и недостаточно простым для понимания.
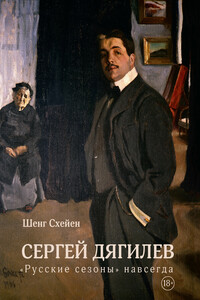
Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872–1929). Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения. Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па.

Эта книга о цвете в цифровой фотографии. Она написана фотографом-колористом, который в своей практике опирается на художественные знания о цвете и использует возможности современных средств компьютерной обработки. Автор рассматривает все аспекты работы с цветом комплексно – от особенностей цветовосприятия человека, взаимосвязи цвета и композиции, критериев оценки колористической выразительности до процессов съемки, Raw-конвертации и цветокоррекции в Adobe Photoshop. Технические аспекты работы с цифровой фотографией рассматриваются с точки зрения художественного восприятия, чтобы читатель мог понять, как поставить инструменты на службу творческой идее. Книга адресована широкому кругу фотографов, а также может оказаться полезной цветокорректорам, дизайнерам и другим специалистам, работающим с цифровой фотографией.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.
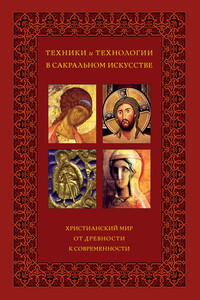
Состояние сохранности древних памятников религиозного искусства, к настоящему времени отнюдь не удовлетворительное, настоятельно требует привлечения для их реставрации современных методов материально-технического исследования по всем уровням, начиная от основы и кончая красочным слоем.Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.
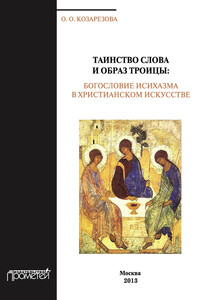
В монографии рассматривается догматический аспект иконографии Троицы, Христа-Спасителя. Раскрывается символика православного храма, показывается тесная связь православной иконы с мистикой исихазма. Книга адресована педагогам, религиоведам, искусствоведам, студентам-историкам, культурологам, филологам.
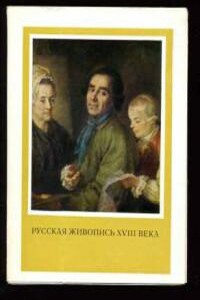
![Русская живопись второй половины XIX века. Критический реализм и академизм [статья]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)