Золотая рота - [8]
Он сжал кулак и подвинулся к Глебу почти вплотную. В черных глазах его блеснуло что-то дикое, как у зверя.
— Что ты? — скорее удивленным, нежели испуганным голосом спросил его собеседник.
— А вот что! — грубо крикнул ему в самое ухо Ларанский, — я тебе говорю, истинно, слыхал? Я тебе говорю… ты оставь ее, Лизу, а то я тебя, знаешь! Слыхал? — и захлебнулся от ярости и муки.
— Да ты ошалел, что ли? — опасливо отодвигаясь, произнес Глеб. — Ты что же это, дурак, в самом деле? — и вдруг, встретив его взгляд, взгляд волка, поджидающего добычу, словно разом остыл и потух в своем гневе. И уже совсем иным, миролюбивым тоном проговорил не то ласково, не то сварливо:
— И чего ты взъерепенился, право? Какого черта? Что она тебе, сестра? Жена? Невеста? Михайлы Хромого невеста она. А ты… Да ты врезался в нее, что ли, скажи на милость?
Но Марк не отвечал. Он только сейчас понял всю дикую ненужность своего порыва. И запоздалое раскаяние засосало его.
Стараясь не глядеть на Глеба, он мрачно нахлобучил по самые брови свой выгоревший от солнца и времени картуз с поломанным козырьком и двинулся к дому.
Но, почти дойдя до белого, в тон фабрике выкрашенного конторского здания, Марк резко отвернулся от него и, угрюмо насупясь, пошел обратно через мост, к городу, где, замирая по-вечернему, теплилась жизнь.
Мысль об отце и пощечине погнала Марка от фабрики. Он не хотел и не мог видеть отца.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Он шел по кривым улицам, по берегу канала, в котором билась замкнутая в шлюзах вода. Вечер темнел.
Дневные звуки замерли, и на смену им родились новые, то тихие, чуть слышные, то смелые, цинично заявляющие свои права на эту ночную тишь.
Дома стали как будто выше и громаднее. Дорога молчала, белея пыльным налетом, уходя далеко-далеко вперед от одного края города к другому.
Марку казалось, что и ночь и дорога — все это продолжение какого-то сна, который он видел когда-то, но который, перейдя к действительности, потерял все свое обаяние. Сна, в который он заключил себя с той минуты, как почувствовал в себе близость к Лизе.
Белая, вьющаяся широкой лентой дорога казалась ему рельефной картиной. И весь этот спящий маленький город с его каналами и шлюзами, с уснувшей фабрикой и беловато-желтым бликом крепости у устья реки — все казалось ему такой же сонной картиной на полотне.
Только когда он вышел по горбатому мосту на городскую площадь и разом обнял всю ее взглядом, с ее скученными неуклюжими постройками, среди которых преобладали трактиры и вертепы; когда он услыхал гул ругани и криков, он понял, что это не сон, а жизнь, кишащая пороком.
Взгляд его достиг длинного одноэтажного дома, похожего на тюрьму или казарму, и он пошел к нему.
Горбатый, словно ощетинившийся зверь, мост остался за ним, притоны тоже.
Марк был теперь один перед зданием и, разом стряхнув с себя остатки перенесенных за день впечатлений, пошел ко входу.
Покосившаяся ржавая дверь жалобно заплакала, когда он, нажав медную скобку, перешагнул порог и очутился в длинной комнате или, вернее, сарае, скупо освещенном жестяной лампой.
Бесконечные ряды нар тянулись от потолка к полу и вдоль стен, оставляя узкий проход между собою посередине сарая.
Отовсюду доносился храп, зловещий и безобразный, похожий скорее на удушливое хрипение смерти.
Люди спали везде и всюду, на полу и на нарах, в каком-то сплошном хаосе распростертых неподвижных тел.
Всюду храпели эти неподвижные тела с измятыми лицами и всклокоченными волосами. И в этой сплошной груде, едва напоминающей о жизни, в этом мертвом спокойствии ее было что-то животное, бесправное, тупое.
Зловонье, исходящее от спящих, заключало общую тяжесть впечатления. Оно тянулось тысячами острых, смрадных потоков и беспощадно напоминало о себе, вонзаясь в горло, в нос, во все поры Марка.
Он чуть не задохнулся в первую минуту. Потом победил тошноту, стараясь не дышать носом, чтобы не впитывать в себя эту смрадную специфическую кислоту пота и перегоревшего спирта, идущую волной от тел, не чувствовать ее острой, гнетущей силы, шагнул к середине сарая, где на полу стояла жестяная лампочка и пятеро мужчин играли в карты.
Рыжий всклокоченный громадный человек с добродушнейшим лицом равнодушно взглянул на вошедшего и, промычав что-то неопределенное, снова сосредоточенно впился взором в засаленные фигуры карт.
— Марку Артемиевичу! — процедил в ту же минуту дурачливым фальцетом тоненький, жидкий, с вороватыми глазами человечек, казавшийся подростком, одетый со щеголеватою тщательностью, убого проглядывающей сквозь нищенские отрепья. В испитом лице его крылось что-то большее, нежели лукавство, что видел не каждый и что было нелегко уловить в первые минуты. И оно было по-своему красиво, это лицо, со всеми его следами пережитого в заострившихся почти юных чертах.
Трое остальных игроков не обратили никакого внимания на Марка. У одного из них, старого грязного старика с подшибленным глазом, перевязанным грязной окровавленной тряпицей, следы на лице говорили о неизгладимой порочной болезни. Он был извозчиком по профессии раньше и теперь еще ходил в изодранном, неузнаваемом от старости и грязи армяке, похожем на лохмотья.

Жила в роскошном замке маленькая принцесса Эзольда, хорошенькая, нарядная, всегда в расшитых золотом платьях и драгоценных ожерельях. Словом, настоящая сказочная принцесса — и, как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой.Совсем избаловали маленькую Эзольду. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего ни пожелает принцесса — мигом исполняется…

Некрасивая, необщительная и скромная Лиза из тихой и почти семейно атмосферы пансиона, где все привыкли и к ее виду и к нраву попадает в совсем новую, непривычную среду, новенькой в средние классы института.Не знающая институтских обычаев, принципиально-честная, болезненно-скромная Лиза никак не может поладить с классом. Каждая ее попытка что-то сделать ухудшает ситуацию…

Повесть о жизни великого подвижника земли русской.С 39 иллюстрациями, в числе которых: снимки с картин Нестерова, Новоскольцева, Брюллова, копии древних миниатюр, виды и пр. и пр.
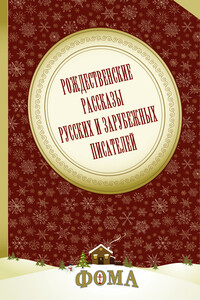
Истории, собранные в этом сборнике, объединяет вера в добро и чудеса, которые приносит в нашу жизнь светлый праздник Рождества. Вместе с героями читатель переживет и печаль, и опасности, но в конце все обязательно будет хорошо, главное верить в чудо.
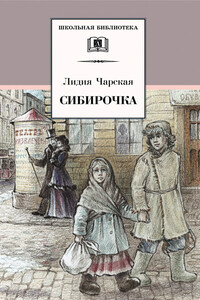
В книгу Л. Чарской, самой популярной детской писательницы начала XX века, вошли две повести: «Сибирочка» и «Записки маленькой гимназистки».В первой рассказывается о приключениях маленькой девочки, оставшейся без родителей в сибирской тайге.Во второй речь идет о судьбе сироты, оказавшейся в семье богатых родственников и сумевшей своей добротой и чистосердечностью завоевать расположение окружающих.Для среднего школьного возраста.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
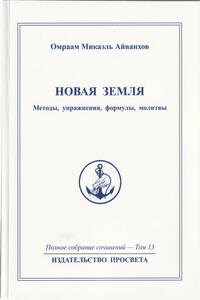
В этом томе представлены простые и эффективные методы и упражнения, указанные Омраамом Микаэлем Айванховым в своих беседах, чтобы удовлетворить столь ощутимую потребность в них на духовном пути. Одни из этих методов и упражнений касаются конкретных аспектов повседневной жизни, другие — собственно духовной деятельности. Все методы исходят из посвященческой традиции, которая, в первую очередь, занимается пришествием, как сказано в Писаниях «нового Неба и новой земли…», то есть изменением манеры мышления и нравов.
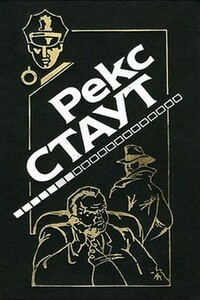
Вулф собирает у себя дома членов Манхэттенского цветочного клуба. Пока они любовались орхидеями, кто-то из приглашенных задушил его гостью Синтию, и Вулфу приходится раскрыть это преступление.
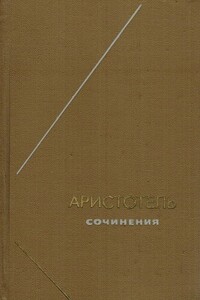
Перед вами труд величайшего древнегреческого философа, ученика Платона и воспитателя Александра Македонского — Аристотеля (384 – 322 до н. э.), оказавшего исключительное влияние на развитие западноевропейской философии.«Большая этика» — посвящена нравственным проблемам личности и общества и обоснованию главного принципа этики Аристотеля — разумного поведения и умеренности. Пер. Т. А. Миллер.

Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников… На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки.На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба.Трилогия «Русская канарейка» – грандиозная сага о любви и о Музыке – в одном томе.
