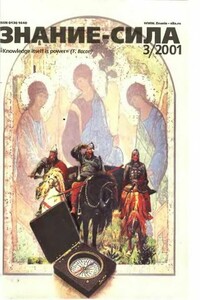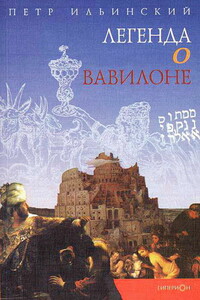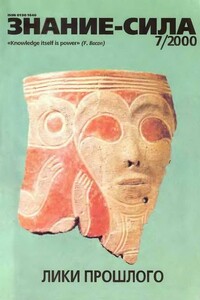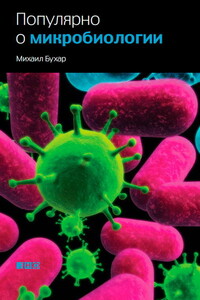— Вы хотите сказать, что сущностно русская языковая картина мира не изменилась, несмотря на все, о чем мы говорили?
— Она меняется всегда, сдвиги происходят и накапливаются десятилетиями, их — в бытовом языке, который меня больше всего интересует — произошло особенно много за последние два века, XIX и ХХ. Меняется один фрагмент, потом другой и мы даже не замечаем, что у картины появляется новое «выражение лица». Например, в европейских культурах, весь ХК век выходивших из своего крестьянского прошлого, значительно изменилось самосознание носителей языка, их представление о ценности тех или иных качеств личности. Прежде гордость считалась одним из смертных грехов, и еще Чехов, когда какая-то дама назвала его гордым писателем, ответил ей, что горды только индюки. Правда, позже он требовал от всех «высокой человеческой гордости» — тем самым зафиксировав сдвиг в значении слова от высокомерия и надменности к чувству собственного достоинства.
— Разве это не в средние века произошло — гордые рыцари...
— Вы реагируете как современный человек: в средние века говорили не о гордости, а о чести — это совсем разные вещи. Есть культура, где честь занимает огромное, ключевое место: польская. Там она обозначается заимствованным словом «honor» — гонор. Мы это слово в свою очередь заимствовали у поляков, но накрепко связали с высокомерием и надменностью — именно как польской модели поведения.
Много подобных заимствований мы наделили иным смыслом, вписав в свою картину мира. Например, французский «кураж», исходно означавший храбрость, бесстрашие, мы вписали в контекст безудержного, безоглядного разгула. Еще интереснее судьба слова «деликатный»; во французском оно значит всего лишь «мягкий, тонкий» и касается чего угодно. Поначалу так было и у нас, его часто употребляли по отношению к еде и с тех пор остались «деликатесы». Потом слово вписалось в ключевую для русской картины мира сферу человеческих отношений и стало означать стремление не обидеть, не задеть чувства другого человека. Сейчас на наших глазах произошло вторичное заимствование того же слова: реклама говорит о «деликатной стирке» — вот такие заимствования, размывающие значения, важные для нашего языка, нашей системы ценностей, кажутся мне весьма неудачными и вредными.
Резко изменилась отношение к слову «интерес», тоже практически во всех европейских языках. Прежде его в нынешнем смысле не существовало, не было такого понятия. «Интерес» раньше означал выгоду: действовать в своих интересах. Потом не просто слово приобрело новое значение, появилось новое важное понятие, противопоставленное выгоде: «из интереса» можно работать и на маленькую зарплату. Я недавно провел свой маленький опрос окружающих и выяснил, что играть «на интерес» для нынешних молодых людей означает играть не на деньги.
Многие перемены происходят на наших глазах. Например, выражение «карьерный рост», которое сегодня звучит вполне нейтрально — вы думаете, оно было еще каких-нибудь 20 лет назад? Ничего подобного. Нейтральных слов «карьер» было только два: карьер для лошади и песчаный карьер; все остальное принадлежало понятию «карьерист, карьеризм» и было сугубо отрицательно. А поскольку слово «рост» окрашено положительно, такое словосочетание было совершенно невозможно.
Не было и «успешного человека»; это выражение и до сих пор звучит как-то странно, еще не прижилось. Был «человек преуспевающий», со значением не слишком хорошим: преуспевающий писатель — член Союза писателей, которого издают большими тиражами, награждают, но который вряд ли пишет что-нибудь стоящее. Так сложилось далеко не только под влиянием советского уклада жизни: недоверие к успеху, к продвижению и раньше было в русской языковой картине мира. Как и ко всякой выгоде. Когда-то слово «корысть» было нейтральным. Пушкинская старуха сожалеет, что мало попросила у Золотой рыбки: «корыто! Много ль в нем корысти!», то есть пользы. Позже слово приобрело явственно отрицательное значение, которого, кстати, лишено во всех других славянских языках.
Все это вместе: «успешный человек», «эффективный менеджер», «карьерный рост» — уже не фрагментарные, а системные изменения. Особенно если заодно вспомнить о потерях, как мы практически потеряли свой «авось». Но такие перемены — процесс долгий.
Язык сопротивляется освоению слов, которые противоречат языковой картине мира. Не только советские реалии сформировали категорическое неприятие слова «донос». Когда-то оно было вполне нейтральным — просто какое-то сообщение, посланное начальству. Пушкин в свой «донос Петру от Кочубея на гетмана-злодея» не вкладывал ровно никаких отрицательных эмоций. За ХК век слово накопило такой скверный смысл, что и в советские времена никто не называл свой «стук» в органы доносом: «сигнал», «сообщение» — только не донос. В конце концов Словарь Ушакова поправили таким знаменательным образом: донос — в буржуазном обществе сообщение властям о готовящихся революционных действиях. Уже в постсоветское время, столкнувшись с нейтральным отношением американского общества к доносам учителю — о том, что сосед по парте списывает, начальству — что коллега опоздал на работу, и нас какой-то журналист пытался цивилизовать, написав страстную статью об общественной пользе доноса. Ничего не вышло, язык тихо выдворил эту новацию.