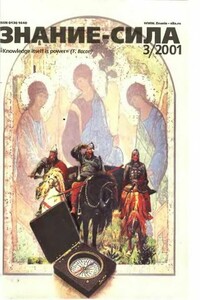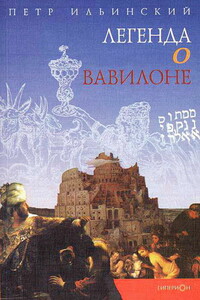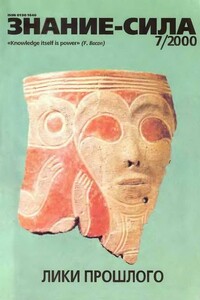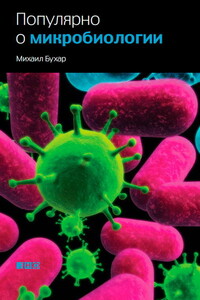— Ну да, деградацией русского языка в постсоветский период озабочены все — от пенсионеров до депутатов Государственной Думы. Изменился социально-экономический уклад жизни — и язык меняется, так, что ли?
— Нет, я так не думаю. То есть язык, конечно, меняется, и языковая картина мира меняется тоже, но это происходит намного медленнее и незаметнее для невооруженного глаза, чем принято думать. Те же перемены, о которых много говорят, кажутся мне или несуществующими, или несущественными.
— А потоки иностранных заимствований? А резкое падение культуры речи, особенно видное у политических деятелей, и падение всеобщей грамотности, особенно ощутимое во всех печатных изданиях? А мат, звучащий отовсюду, включая телевидение, книги, периодику? Это не существует? Или несущественно?
— Лично я — и меня поддерживают большинство лингвистов — именно в этом особых примет кризиса не вижу.
Заимствования из иностранных языков, в основном английского, связаны прежде всего с необходимостью как-то называть реалии, которых прежде не было: так множество новых слов пришло в русский язык из голландского и немецкого, когда Петр I впервые в русской истории начал строить у нас современные по тем временам корабли. Так пришла в русский язык группа слов, связанных с футболом, когда мы заимствовали саму игру. Так сегодня многие искренне удивятся тому, что 20 лет назад в русском языке просто не было слова «грант» (соответственно и самих грантов тоже практически не было). Эти заимствования никак не меняют языковую картину мира и засоряют язык не более, чем сами обозначаемые ими явления и предметы. Какова будет дальнейшая судьба этих заимствований? Многие из них приживутся, как прижилось слово «грант». Некоторые будут вытеснены или потеснены русскими аналогами: с начала прошлого века перестали смущать кого бы то ни было слова «пенальти» и «аут», слова «голкипер», «бек», «хавбек» были заменены «вратарем», «защитником» и «полузащитником», идет конкуренция между «форвардом» и «нападающим», «офсайдом» и «вне игры», «корнером» и «угловым». В любом случае русскому языку это ничем не угрожает.
О падении культуры речи, и особенно у политических деятелей, судить мы никак не можем: невозможно сравнивать речь, прочитанную по бумажке, со свободной устной речью. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что вне такого чтения вслух генеральные секретари ЦК КПСС, как и просто секретари, были грамотнее нынешних президентов и их помощников. Что же касается речи остальных российских граждан, то она явно стала менее формальна в определенных ситуациях — к чему отношение у меня двойственное. Во всяком случае, орфографические ошибки даже в респектабельных изданиях говорят скорее не о снижении грамотности авторов, а о склонности издателей экономить на квалифицированной корректуре.
Сложнее с матом: я не уверен, что число людей, склонных материться, как и число тех, кто решительно уклоняется от этого языка, сильно изменилось. Но мат проник в тексты книг, журналов, газет, на радио и телевидение, то есть все более претендует на место в языке, куда прежде не был допущен. С одной стороны — это свидетельство большей свободы выражений в официальной, публичной сфере, в советские времена сверх всякой меры засоренной формальной идеологической лексикой и канцеляритом. С другой — это хотя и эмоционально насыщенный, но грубый, упрощенный язык. Вместе с уголовной лексикой, которая теперь тоже в ходу, они несут специфический, очень циничный взгляд на мир. На этом языке вряд ли можно говорить о любви, рассуждать на «возвышенные» темы: в больших и важных сферах такой язык не пригоден.
В принципе опасность массового вторжения в литературную речь элементов, присущих различным видам «сниженной» речи, носит вовсе не лингвистический характер. Дело не в «порче» языка, а в «порче нравов»; точнее, в том, что неприметным образом циническое представление о мире подается как нечто само собою разумеющееся, не имеющее альтернатив.
А лингвистическая ситуация есть следствие ослабления «перегородок» между разными русскими языками.
— Это как?
— Язык всегда делился на много разных подсистем, которые функционировали каждая в своей сфере. Говорят о «двуязычии» советского человека, имея в виду его лицемерие в политических вопросах, его умение приспосабливаться к идеологическим запросам власти. Все это верно; только я бы добавил, что любой наш человек в принципе владеет несколькими русскими языками и легко переходит с одного на другой в разных ситуациях — как, впрочем, и любой француз, немец и так далее. На одном языке он обсуждает с коллегами профессиональную проблему; на другом ругает сына за двойку; на третьем говорит с гостями; на четвертом клянет хулиганов, поцарапавших его машину. Прежде язык официальный, публичный был резко выделен и жестко предписан, регламентирован языком газет и чиновным канцеляритом; перегородки между «языками» были жесткими. Сейчас они если не исчезли совсем, то стали очень проницаемы. Одни видят в этом свободу от формализма и ханжества советского новояза, другие — порчу языка.
На самом деле тут есть проблема для языковой картины мира, но она не сводится и не исчерпывается этими довольно поверхностными и преходящими явлениями.