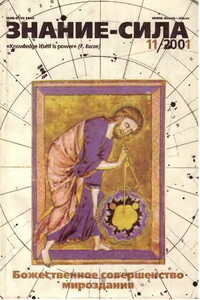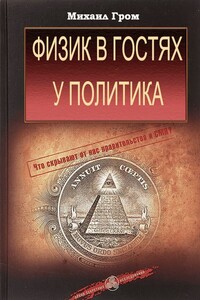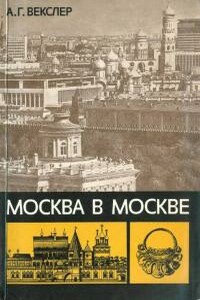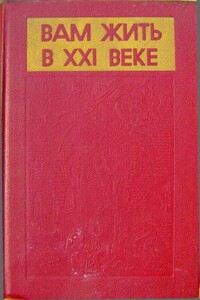Мой враг, мой друг, мой господин
Люди склонны не замечать самое существенное. Например, воздух. Или язык, на котором говорят с рождения.
Дело совершенно безнадежное — рассуждать о всех смыслах, значениях и гранях языка как явления.
Скажем о нем как о лакмусовой бумажке или... как о пленном во вражеском стане, ибо язык выдает все секреты — самые тонкие особенности, пристрастия, достижения и провалы своего носителя.
Для этого нужно заняться переводом с одного языка на другой, а получится — с одной культуры на другую.
Роль переводчика в русской культуре еще не оценена по достоинству.
Он, несомненно, более крупная фигура, чем просто «технический посредник».
В групповом портрете времени — любого времени — его место, похоже, в первых рядах.
Потому что в поиске адекватного слова предстает все историческое поле культуры, внутренней и внешней, без всякой возможности что-то утаить или приукрасить.
И самое интересное — не только чужой, но и своей.
Сергей Ромашко
«Недоуметельное языка моего»
* Сокращенный вариант, полный — в журнале ИФ № 4 2001.
Фюсли. Кошмар. 1790 г
Корявая фраза когда-то поразила меня своим наивным очарованием*. Появилась она в церковнославянском тексте «диалектики» Иоанна Дамаскина много веков назад, когда переводчики отчаянно старались навести мосты между языковой массой еще совсем языческого мира и изощренной греческой словесностью. Фигура смиренного самоуничижения, признание автором слабости своих умственных и речевых способностей, была привычной в средневековом мире (да и позднее), поэтому выражение понравилось, и его воспроизводили уже в оригинальных сочинениях на Руси. Эта фраза — как модель роли перевода в российских попытках общения с внешним миром.
Культура Руси (России) — по крайней мере в ее письменный, исторический период — начинается переводами. Переводами (переложениями, адаптациями) продолжается она и в дальнейшем. Какой момент и какой аспект ни возьми — всюду наткнешься на ту же переводческую работу. Религиозная история (скажем, история раскола: править или не править переводы богослужебных текстов?), светская история (переводы научные и литературные самых разных эпох и периодов) дают тому множество подтверждений. Что примечательно для российской ситуации, так это — как и для культуры вообще — стрессовый характер переводческого задания. Развитие — рывками, резкими усилиями, когда казалось, что время вот- вот будет безнадежно упущено и только сумасшедшим движением можно еще успеть и не отстать окончательно, — все это было характерно и для переводческой работы. На каждом повороте вдруг выяснялось, что у нас нет массы понятий и слов, без которых общение с Европой невозможно. И тогда переводчик отчаянно пытался подобрать хоть что-то, что могло бы заменить чужие слова. Это удавалось далеко не всегда, и тот, кому сегодня не нравятся «дилеры» и «хакеры», может вспомнить о «рейтарах» «Вестей/Курантов» XVII века, «бомбардирах» и «негоциях» петровского времени, а то и двинуться глубже и прочесть в «Избранике» 1076 года «Слово некоего калугера о чтении книг».