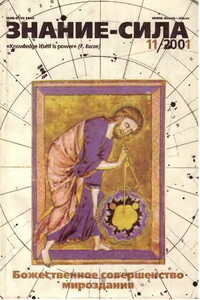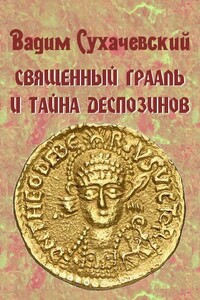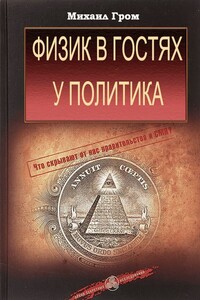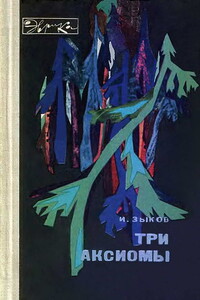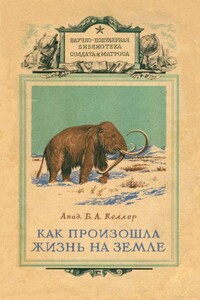Короче говоря, он — сын Fin de siecle, "конца века"; он — декадент, порой странно напоминающий оскаруайльдовекого Дориана Грея. Тот "в погоне за ощущениями, новыми и упоительными,., часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре,., а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них" (пер. М. Абкиной). Точно так же Шерлок Холмс увлекался идеями чужих преступлений, а затем, постигнув их сущность, снова погружался в нервическую меланхолию.
Если бы Шерлок Холмс не был наделен таким ярким, колоритным характером, вряд ли почитатели его приключений вот уже второе столетие перечитывали бы несколько десятков рассказов о нем, вряд ли Холмс стал бы фигурой не только культовой, но и мифической. Его черты "Конан Дойл вдалбливает в сознание читателей с тем же упорством, с каким мастера рекламы превозносят мыло, пиво или сигареты, — ворчливо замечал Моэм, но и он был вынужден признать триумф ненавистных ему писателя и героя. — И с не менее прибыльными результатами".
А ведь результаты и впрямь налицо! Преступность в Лондоне заметно снизилась. Социального взрыва не произошло. И если не сам мистер Холмс, фигура мифическая, стал виновником этого торжества справедливости, то его многочисленные коллеги, полисмены — они лишили Лондон звания "столицы преступного мира". Когда подобное скажем мы о Москве или "бандитском Петербурге"?
Эдуард Вирапян
Импровизация
М. Мамардашвили.
Философские чтения.
СПб.: Азбуке — классика, 2002
Один из учителей Цицерона, юрист и оратор Квинт Муций Сцевола, давая частные уроки, каждый раз начинал и заканчивал их предупреждением: "Среди самых трудных занятий, которым сложнее всего обучить, мы выделяем искусство красноречия и ковки меча, ибо ударная сила обоих зависит от качества остроты в них". Очевидцы свидетельствуют: Цицерон в конце жизни, сраженный врагами, обязал убийц передать тем, кто их послал: "Вот он, острый меч, где он соединяется с острым словом". Когда Пазолини снимал "Медею", он вспомнил в частной беседе об этом и на вопрос: "Это будет зрелищный фильм или его красивое философское решение?" ответил: "Граница между философией и тем, что ею не является, проходит на острие сразившего Цицерона меча, но границ, на самом деле, не существует, существуют только законы".
Труды Мераба Константиновича Мамардашвили (1930 — 1990) относятся к тем явлениям мысли, которые объясняли эти законы, указывая им движение. Трудно найти другого современного автора, кому удавалось бы это привести к такой ясности, как у него: "Великодушие — это свобода и власть над самим собой, свобода и власть распоряжаться собой и своими намерениями, потому что ничто другое нам не принадлежит".
Работы Мамардашвили, вместе изданные, открывают интуитивный взгляд (поскольку философия не точная наука, с чем согласен и он, причем термин "интуитивный" наиболее подходит именно для него самого) на те или иные события или выражения мысли. Плетя действия из них, Мамардашвили заменяет этим словесное объяснение, ибо по его определению, "о предмете действительной мысли вообще написать ничего нельзя. Выразить письмом мысль невозможно, мысль невыразима". Дело не в том, почему это так, дело в том, почему это иначе быть не может. В своих размышлениях Мамардашвили пытается говорить именно об этом. И если в основе познаваемости мира неизменным остается назвать вещи своими именами, то он действительно находил называния таким вещам: "Да, философия занимается вечными проблемами, но проблемами не в смысле этого слова "проблема". Когда мы говорим "проблема", мы имеем в виду, что она разрешима каким-то конечным средством, конечным числом шагов. И если сегодня неразрешима, то завтра будет разрешима. Таких проблем в философии нет. Если бы они были, то они были бы решены. В философии говорят о "вечных проблемах" в смысле деятельности, полноты бытия, созидания. А это ведь не раз и навсегда. Это каждый раз нужно делать заново. Ибо речь идет, повторяю, о бытии. Оно одно, если мы это делаем, и оно другое, если не делаем".
В книге три центральных персонажа: Декарт, Кант, Пруст. Мамардашвили говорит, что в основе философии лежит удивление. Предметом изучения, поскольку являлись предметом удивления, для него и были эти три персонажа. Все остальное возникает из этого опыта изучения или в связи с ним.
А опыт такого рода у Мамардашвили был громадный. По ассоциации он имеет сходство с оратором. Его игра тоже завораживает, он также красноречив и метафоричен, но в отличие от оратора он ни к чему не призывает, ни в чем не убеждает, а наоборот, оставляет наедине с самим собой — уединяет, чтобы в этой бездне молчания создать прелюдию к единственному большому ожиданию на земле — встрече. Он не случайно повторяет:
"Философия состоит из вещей, посредством которых мы что-то понимаем, а сами эти веши непонятны, они служат для понимания других вещей".
Что сберегает время? Мамардашвили сам этот вопрос не ставит, но для его читателя он возникает постоянно. Его и нельзя изменить, ибо неизменным остается то, как он нам говорит: что мы имеем и чего не имеем, куда идем и куда не можем дойти, что оставляем и что теряем, что находим и что не можем никогда найти... А это и есть время и место Мамардашвили, которым так подходят слова Дидро: "Вы были там прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйдете".