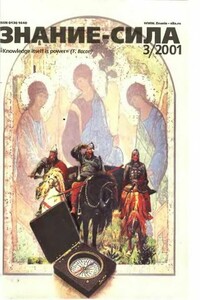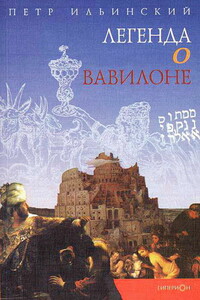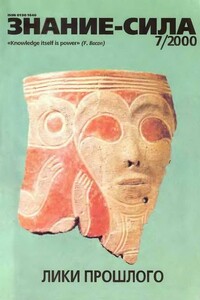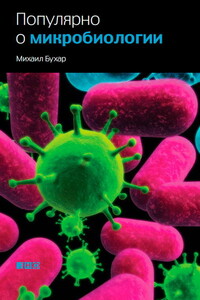Можно сказать, что в компьютеризованном обществе (а компьютеризация тогда еще только начинала набирать силу, было самое время для того, чтобы ее домысливать) «знание» в его прежнем виде уступает место «информации».
Наука же, прежний источник устойчивости, очевидности, надежности, истины, теперь оказывается чем-то совершенно противоположным. Свое собственное развитие она теперь видит как процесс прерывный, парадоксальный, катастрофич ес кий, не проясняемый до конца, он производит теперь неизвестное, неизвестное же не создает равновесия, а нарушает его.
Перед нами – типичный образчик идеологии эпохи утраты восприимчивости к идеологиям, во всяком случае к идеологиям старого типа. С самоуверенностью и категоричностью, присущей всем идеологиям, она утверждает: уж теперь-то никакая идеология невозможна, не смеет быть возможной. Поскольку де уже не действуют механизмы, которые ее порождают.
Эпоха, описавшая себя как «постмодерн» (по Лиотару, она начала складываться с конца пятидесятых годов, с завершением послевоенного восстановления европейских стран), подобно всем эпохам, принимает состояние дел, успевшее сложиться к ее началу, за нечто едва ли не окончательное, между тем как сама она все более явственно обнаруживает свою глубоко несамостоятельную, а значит, переходную природу. Она и самостоятельного имени себе не смогла изобрести, отталкиваясь даже в названии от предыдущего состояния – «модерна». И это неспроста.
В нем слишком многое строится на отрицании, даже на подспудных страхах: европейские интеллектуалы напуганы тоталитарными режимами. (Лиотар принадлежит как раз к одному из тех поколений, на глазах которых развернулись связанные с ними ужасы.) Еше и спустя десятилетия после их краха оказывается необходимым убеждать себя в том, что «террор» (хотя бы и в виде притязаний на создание «гомогенной системы высказываний»!) более не смеет быть возможным. «Универсального» не столько не понимают, сколько не хотят понимать. Но это пройдет.
Это – затянувшееся преодоление ценностей и ограничений «модерна», время дезориентированности и растерянности, брожение, из которого еше предстоит родиться новой устойчивости. Страх хаоса еще приведет к тоске по ней и к созданию ее из какого бы то ни было подручного материала. Чтобы выдержать нестабильность, надо быть очень укрепленным в своих основаниях. А этого как раз идеологи «постмодерна» и не предлагают.
Выход у нас «постмодернистского» классика, сам факт обретения идеологом постмодерна такого статуса – хороший признак, это значит, что «постмодернизм» заканчивается. Он закончится тогда, когда выработает набор своих жестких, «канонических» описаний и благодаря этому сможет обозреть себя как целое. А значит, найти на это целое убедительные возражения.
Отражение в капле
Сыродеева А. «Мир малого: опыт описания локальности». М., ИФ РАН, 1998, /24 с.
А. Сыродеева позволяет увидеть те же процессы, о которых языком отвлеченных положений пишет Лиотар, с другой стороны, с изнанки. Хотя книга философская, она говорит в первую очередь о том, как все эти процессы переживаются и чувствуются обитателями нашего времени и только в результате этого мыслятся.
Что же мы приобретаем взамен универсалий, от которых в страхе отвернулись?
Растет восприимчивость – и исследовательская, и художественная, и философская, и человеческая вообще – к разного рода малым мирам – социальным, национальным, лично биографическим, повседневно бытовым. На авансцену культурного внимания выходит частное, случайное, такое, чего принципиально нельзя ни обобщить, ни распространить за его неизбежно узкие границы. Все укромное, домашних масштабов начинает переживаться как симпатичное, притягательное, доброе, настоящее…
В исторической науке это, например, приводит к складыванию установки на подробный, всесторонний анализ индивидуальных случаев, конкретных ситуаций («case study»). В культурологии формирует интерес к субкультурам, в социологии – к социальным перифериям, к малым группам, к маргинальным типам. В изобразительных искусствах – усиление роли детали, фрагмента, эпизода, убывание целостности, распространение коллажей. В философии внимание сдвигается от теории к повествованиям, от поисков истины, сущности, выяснения глубинной природы вещей – к описанию правил различных «игр», к случайному, темпоральному, контекстуальному, историчному, предельному… Сама же философия уже готова рассматривать себя как всего лишь одну из литературных традиций. В личном моделировании людьми своей судьбы складывается приоритет ценностей частной жизни, отказ от подчинения ее чему-то глобальному, от вписывания ее в какие бы то ни было большие проекты. В литературе – преобладание соответствующих тем. В читательских пристрастиях – увлечение, например. Толкином с его хоббитами, героями малого мира, укорененными в обыденной жизни, в слабости и малости которых как раз и кроется их сила и устойчивость. (Мы бы добавили сюда еще рост интереса к воспоминаниям и вообще всякого рода частным запискам и «человеческим документам».)
Это все, считает автор, разные стороны одного и того же. Каждой из этих сторон в книге достается отдельная глава или хоть часть главы, и таким образом получается своеобразная картография «мира малого». Книга интересна уж хотя бы тем, что все это увидено вместе, единым взглядом.