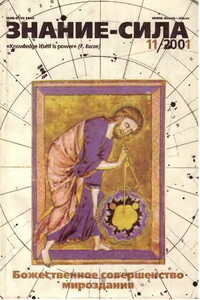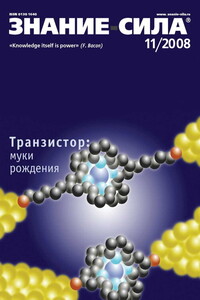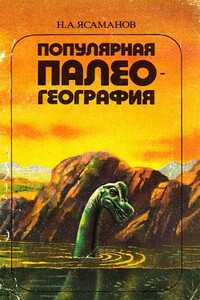Вот тогда она и занялась этнографией. Со своим психологическим образованием и привычками, хваткой социолога. Ее муж, Миша Борщевский, чистый социолог и диссидент, давно уже привел ее в социологическую лабораторию, где мы с ним работали; помню, она, беременная, тихо сидела в сторонке, слушала наши бесконечные споры – и вдруг возни ката как бы из небытия с каким-то очень точным и неожиданным вопросом. Каждый раз она нас удивляла этим своим умением впитывать и перерабатывать массу новых понятий, мгновенно ухватывая суть, да еще в каком- то оригинальном ракурсе.
Николай Руденский: – Этнографы практически псе – историки по базовому образованию, у нее такого образования не было; но она быстро и в этой сфере вышла на уровень настоящего специалиста. А ее психологическое образование, социологические склонности и – это очень важ-но – достаточное знание английского языка, чтобы читать специальную литературу, быстро создали ей особое положение среди этнографов.
Тему диссертации – национальные меньшинства в большом городе – по-моему, она выбрала сама и вложила в нее столько работы, сколько вовсе не требовалось для кандидатской, да и не принято было делать. Чудовищный объем даже чисто механической обработки собранного материала – без всяких, заметьте, компьютеров, вручную… Тема, конечно, тоже была странной по тем временам. Этносоциология тогда у нас начиналась, но взять национальные меньшинства… Вдобавок нацменьшинства без территории, в городе – они вообще «зависли», никому не нужны, никому не интересны… Времена хоть и были посвободнее, все же мысль о слиянии наций нал нами витала и как бы заранее предполагалось, что если татары и не превращаются в русских, то, как сказал бы Макар Нагульнов, все становятся приятно смуглявыми. А у нее этого совершенно не было, как, впрочем, не было и стремления доказать противоположное: татары, несмотря ни на что, остаются татарами и не меняются. Не было предрешенности и все производило очень приятное впечатление какой-то научной строгости. Первая же статья Галины по этой работе, «К этнопсихологии городских жителей» или что-то вроде этого, сразу была замечена.
Михаил Членов: – У нас тогда анкеты обязательно перед употреблением просматривали и утверждали – или запрещали – вышестоящие идеологические инстанции. Она хотела взять татар, эстонцев, армян и евреев Ленинграда – изучить особенности их образа жизни, представлений. Евреев ей, естественно, запретили. Она очень тогда расстроилась, хотела даже от темы отказаться, я ее уговорил этого не делать…
Что же все-таки это за история с татарским кладбищем?
Николай Руденский: – Концепция города как плавильного котла, в котором стираются все исходные различия, тогда была у нас исключительно модной – мы сильно запаздывали. В мировой науке к этому времени уже было принято, что эта теория справедлива с весьма существенными ограничениями. Жизнь в крупном городе, конечно же, меняет какие-то объективные формы культуры: одежду, даже пищу; но этническое самосознание – совсем другое дело, тут все гораздо сложнее. Как любила цитировать Галя кого-то из американцев, «мы думали, у нас в большом городе варится суп, а получился салат».
Все заговорили об этническом возрождении, и посыпались исследования, ему посвященные; вскоре все, что связано с ассимиляцией, стало восприниматься в западном научном сообществе, скажем мягко, с большой осторожностью. Наши поэтому часто попадали во всяческие недоразумения. Я помню, например, как на международном конгрессе одна наша дама, совершенно, по нашим меркам, нормальный ученый, делала доклад о переводе кочевников на оседлость – западные ученые были в ужасе, как если бы перед ними выступил представитель нацистского ведомства и рассказал, как у них решается еврейская проблема. А где культурный релятивизм, самостоятельная ценность другой культуры?!
Для нас исследование Галины было новым и неожиданным во многих отношениях: и подходами, и методами работы.
Я думаю, тут есть мост к позднему этапу ее жизни и деятельности как политика, когда она занялась национальными отношениями – в отличие от многих, она ценила и уважала этническую специфику, самобытность. По моим воспоминаниям, ее тогдашние исследования не встречали сильного сопротивления: ее уверенность в себе, умение говорить, зачаточная харизма – все это создавало ей большой авторитет. То, чем она занималась, было не вполне принято, но открытого вызова устоявшимся концепциям тут не было. Другое дело – татарское кладбище. Вот это уж совсем не было принято: идти и добиваться чего-то для своих «респондентов», действуя не научными, а обычными методами – горком, обком, требовать, доказывать…
Так расскажет мне кто-нибудь эту историю с кладбищем?
Людмила Иодковская: – Меня в это время уже не было в Ленинграде, я только слышала, что она ходила, хлопотала, добилась…
Михаил Членов: – Я помню, она пришла в институт возбужденная, довольная собой; я ее поздравил, поцеловал – действительно здорово! Но подробностей я, увы, не знаю, не вникал как следует.
Николай Руденский: – Подробностей этой истории я не знаю…