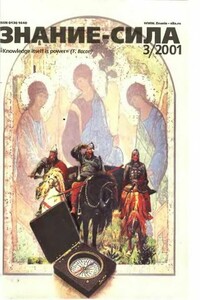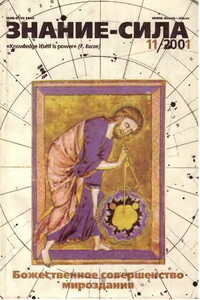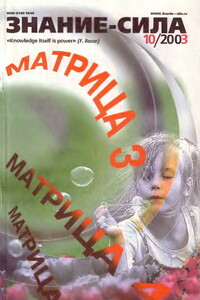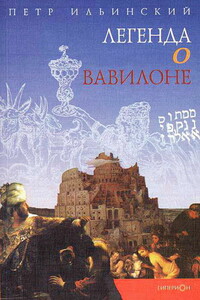Одного этого факта достаточно, наверное, чтобы опровергнуть «национальный канон», на который при всей его очевидной архаичности опирается тем не менее вся современная историография России. Суть его в том, что русская политическая традиция имеет неевропейский характер. Тойнби уверен в ее византийском происхождении. Тибор Самуэли вслед за Марксом считает, что она по природе татарская. Но во всех случаях одно и тоже: Россия унаследовала традицию восточного деспотизма. Однако канон этот решительно неспособен объяснить такой неожиданный политический прорыв, явившийся вдруг, «как беззаконная комета в кругу расчисленных светил», в непроглядной мгле восточной деспотии. На самом деле, ничем, кроме древнего, устоявшегося в России симбиоза европейской и деспотической традиций, объяснить его невозможно.
Струве, как известно, как и его поколение славянофильствующей российской интеллигенции, уверен был, что все либеральное, конституционное, парламентарное, гражданское привнесено в Россию из Европы, ЗАИМСТВОВАНО через петровское «окно». До Петра лежала она бесплодной политической пустыней или, во всяком случае, нераспаханной целиной. «Бессловесной» называл Московскую Русь даже такой сильный и независимый мыслитель, как Федотов, который уж наверняка был на две головы выше Струве.
«Она похожа, – писал Федотов, – на немую девочку, которая так много тайн видит своими неземными глазами и может поведать о них только знаками. А ее долго считали дурочкой только потому, что она бессловесная… Лишь благодаря Западу Россия могла выговорить свое слово. В своей московской традиции она не могла найти тех элементов духа (Логоса), без которых все творческие богатства останутся заколдованной грезой».
На таких (или подобных) идеях выросли последекабристские поколения русской интеллигенции- Именно их и передали они, как эстафету, уже после катастрофы, в эмиграции молодым тогда западным историкам России. Не знаю, как было с другими, но в случае Пайпса или братьев Рязановских, например, это несомненно, что они и демонстрируют. Вот почему не было, не могло быть для них в допетровской России никаких конституций, никаких политических прорывов. Они их не ожидали, не искали и, соответственно, не находили, работая на антикварный «национальный канон», на Парадигму. Как объяснить иначе, что даже в указателе «Русской истории» Николая Рязановского, ученого редчайшей тщательности и объективности, на учебнике которого воспитывались поколения американских студентов, можно найти даже какого-нибудь Сипягина, но не автора первой русской конституции?
Наше путешествие в глубину российских политических традиций не закончилось. Все, что мы покуда видели, были лишь либеральные всполохи, можно сказать конституционные протуберанцы, неожиданно и со странной регулярностью вырывавшиеся из темной толщи автократической истории в первой четверти каждого из трех столетий – XIX, XVIII и XVII. Конечно, это серьезные признаки того, что европейская традиция жила в ней – и в петербургские, и в московские времена. Но все-таки не более чем признаки. Чтобы добраться до истоков этой сложной двухкорневой структуры политической традиции. надо, следуя завету Федотова, копать глубже, идти действительно до корней – к началу государственного существования России. Самые драгоценные «клады» должны быть зарыты именно там.
Парадигма гласит, что вышла Москва из-под ига Золотой Орды, в котором изнемогала на протяжении столетий, преемницей этой орды, свирепым «гарнизонным» государством, военной деспотией. Или, как выражается на своем туманном политическом жаргоне Карл Витгфогель, «одноцентровым… полумаргинальным деспотизмом».
Факты, однако, это опровергают. Согласно им, вышла Москва из-под ига обыкновенной, нормальной североевропейской страной, причем во многих отношениях куда более прогрессивной, нежели ее западные соседи. Во всяком случае, эта «наследница Золотой Орды» первой в Европе поставила на повестку дня своей текущей политики самый судьбоносный вопрос позднего средневековья, церковную Реформацию. Религиозная и политическая терпимость была в ней в полном цвету. И цвела она столь пышно, что по крайней мере на протяжении одного поколения, между 1480 и 1500 годами, можно было даже говорить о «Московских Афинах». В царствование основателя московского государства Ивана (Великого) III на Руси и в помине не было казенного монолога власти перед безмолвствующим народом. Был диалог, была идейная схватка – бурная, открытая и яростная.
Вот лишь одна цитата из письма Иосифа Волоцкого, лидера российских контрреформаторов в этом первом их поколении, по имени которого они, собственно, и были названы иосифлянами. «С того времени, – писал Иосиф, – когда солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси – в домах, на дорогах, на рынках все, иноки и миряне, с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников христианства, с ними дружатся, учатся у них жидовству. А от митрополита 5* еретики не выходят из дому, даже спят у него».