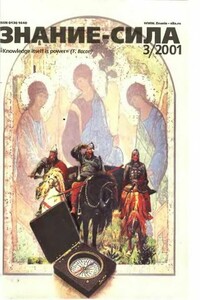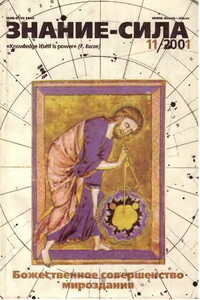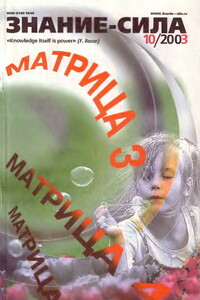Знание-сила, 1999 № 01 (859) - [24]
И для меня лично этот год был плодотворным. Вышла моя книга «История Древней Руси»; вышла книга, сказал бы даже – солидный труд по источниковедению с моей главой по источникам Древней Руси с XII по XVIII век. Опубликовано несколько статей.
Александр Янов
В ее земле закопанные клады…
«Наша история снова лежит перед нами, как целина, ждущая плуга.. Национальный канон, установленный в XIX веке, явно себя исчерпал. Его эвристическая и конструктивная ценность ничтожна. Он давно уже звучит фальшью, новой схемы не создано. Нет архитектора, нет плана, нет идеи. Между тем, вполне мыслима новая национальная схема,., в которую факт русской революции вошел бы не как непредвиденная катастрофа, а как отрицание отрицания, восстановляющее древнюю правду». Это – завет Георгия Федотова, который мы безнадежно забыли. Именно поэтому и должны мы заново, говорил Федотов, «изучать историю России, любовно вглядываться в ее черты, вырывать в ее земле закопанные клады», чтобы восстановить «древнюю правду».
Декабристское поколение, о котором речь шла в прошлой статье3*, не с неба свалилось. Петр Струве пишет, например, в 1918-м в сборнике «Из глубины», что истоки российской трагедии восходят к событиям 25 февраля 1730 года, когда Анна Иоанновна на глазах у потрясенного шляхетства разорвала «Кондиции» Верховного тайного совета (по сути: конституцию послепетровской России).
Между 19 января и 25 февраля 1730 года Москва действительно оказалась в преддверии решающей политической революции. Послепетровское поколение культурной элиты России повернулось, подобно декабристам, против самодержавия. «Русские, – доносил из Москвы французский резидент Маньян, – опасаются… самовластного управления, которое может повторяться до тех пор, пока русские государи будут столь неограниченны вследствие этого они хотят уничтожить самодержавие». Подтверждает это и испанский посол герцог де Лирия: русские намерены, пишет он, «считать царицу лицом, которому они отдают корону как бы на хранение, чтобы в продолжение ее жизни составить свой план управления на будущее время… твердо решившись на это, они имеют три идеи об управлении, в которых еще не согласились: первая – следовать примеру Англии, где король ничего не может делать без парламента, вторая – взять пример с управления Польши, имея выборного монарха, руки которого были бы связаны республикой, и третья – учредить республику по всей форме, без монарха. Какой из этих трех идей они будут следовать, еще неизвестно».
На самом деле, не три, а тринадцать конституционных проектов циркулировали в том роковом месяце в московском обществе. Здесь-то и заключалась беда этого, по сути, декабристского поколения, вышедшего на политическую арену за столетие до декабризма. Не доверяли друг другу, не смогли договориться. (Заметим, что у декабристов конституционных проектов было три и противоречия между ними опять-таки оказались непримиримыми.)
Но не причины поражения российских конституционалистов XVIII века нас занимают. Ясно, что деспотизм не лучшая школа для либеральной политики. Занимает нас само это неожиданное и почти невероятное явление либерального, антисамодержавного поколения в стране, едва очнувшейся от смертельного сна деспотизма.
Оказывается вдруг, что драма декабризма – конфронтация имперского Скалозуба с блестящим, европейски образованным поколением Чацких, единодушно настроенным против самодержавия, против крепостничества, против империи, – вовсе не случайный, нечаянный, изолированный эпизод русской истории. Ибо у послепетровских шляхтичей тоже были предшественники, целое поколение предшественников. Слов нет, они куда менее блестящи и образованны. Их было легче обмануть, им было труднее договориться. Но поколение допетровских, боярских, если хотите, конституционалистов существовало в России еще за столетие до шляхетских. Оно-то откуда, спрашивается, взялось?
Профессор Пайпс, с которым мы схлестнулись в Лондоне на Би-би-си в августе 1977 года, говорил, что российский конституционализм действительно начинается с послепетровских шляхтичей. И происхождение его очевидно: Петр прорубил окно в Европу-вот и хлынули в патримониальную державу европейские идеи. Но как, спросил я, объясните вы в этом случае конституцию Михаила Салтыкова, принятую и одобренную Боярской думой в 1610 году, то есть во времена, когда конституционной монархией еще и в Европе не пахло? Откуда, по-вашему, заимствовали эту идею российские реформаторы в такую глухую и безнадежную для европейского либерализма пору?
Элементарный, в сущности, вопрос, мне и в голову не приходило, что взорвется он в нашем диспуте бомбой. Оказалось, что профессор Пайпс, автор «России при старом режиме», не только не мог интерпретировать этот факт в выгодном для своей позиции смысле, он просто не знал, о чем я говорю. А речь ведь шла не о какой- то незначительной исторической детали. Если верить Василию Осиповичу Ключевскому, конституция 4 февраля 1610 года – «это целый основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных». Даже Борис Чичерин, уж такой ядовитый критик русской политической мысли, что до него и Пайпсу далеко, вынужден был признать; документ «содержит в себе значительные ограничения царской власти; если б он был приведен в исполнение, русское государство приняло бы совершенно иной вид».

Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.

Наше здоровье зависит от того, что мы едим. Но как не ошибиться в выборе питания, если число предлагаемых «правильных» диет, как утверждают знающие люди, приближается к 30 тысячам? Люди шарахаются от одной диеты к другой, от вегетарианства к мясоедению, от монодиет к раздельному питанию. Каждый диетолог уверяет, что именно его система питания самая действенная: одни исходят из собственного взгляда на потребности нашего организма, другие опираются на религиозные традиции, третьи обращаются к древним источникам, четвертые видят панацею в восточной медицине… Виктор Конышев пытается разобраться во всем этом разнообразии и — не принимая сторону какой-либо диеты — дает читателю множество полезных советов, а попутно рассказывает, какова судьба съеденных нами генов, какую роль сыграло в эволюции голодание, для чего необходимо ощущать вкус пищи, что и как ели наши далекие предки и еще о многом другом…Виктор Конышев — доктор медицинских наук, диетолог, автор ряда книг о питании.Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г.

Исаак Ньютон возглавил научную революцию, которая в XVII веке охватила западный мир. Ее высшей точкой стала публикация в 1687 году «Математических начал натуральной философии». В этом труде Ньютон показал нам мир, управляемый тремя законами, которые отвечают за движение, и повсеместно действующей силой притяжения. Чтобы составить полное представление об этом уникальном ученом, к перечисленным фундаментальным открытиям необходимо добавить изобретение дифференциального и интегрального исчислений, а также формулировку основных законов оптики.
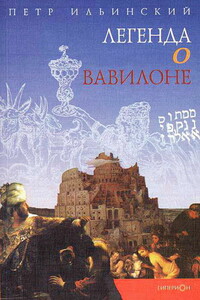
Петр Ильинский, уроженец С.-Петербурга, выпускник МГУ, много лет работал в Гарвардском университете, в настоящее время живет в Бостоне. Автор многочисленных научных статей, патентов, трех книг и нескольких десятков эссе на культурные, политические и исторические темы в печатной и интернет-прессе США, Европы и России. «Легенда о Вавилоне» — книга не только о более чем двухтысячелетней истории Вавилона и породившей его месопотамской цивилизации, но главным образом об отражении этой истории в библейских текстах и культурных образах, присущих как прошлому, так и настоящему.

Научно-популярный журнал «Открытия и гипотезы» представляет свежий взгляд на самые главные загадки вселенной и человечества, его проблемы и открытия. Никогда еще наука не была такой интересной. Представлены теоретические и практические материалы.