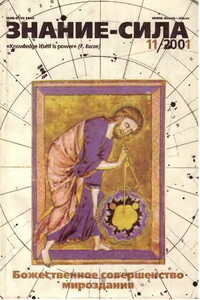Знание-сила, 1998 № 03 (849) - [5]
Несколько раньше на Западе историки проявили интерес к повседневной жизни обыкновенных людей. Когда изобрели магнитофон, в США, а потом и в Европе начала развиваться так называемая устная история. Американцы первые стали фиксировать события, документы, которые по тем или иным нричинам были недоступны, например, по так называемому атомному проекту. Там многие вещи были засекречены, многое происходило вообще по приватным устным договоренностям. Кому первому то или иное решение пришло в голову, кто мысль подхватил, развивал — об этом вообще не узнаешь из документов. После войны американские архивисты-историки обо всем этом опросили действующих лиц проекта. Другая группа исследователей, тоже американцы, собирала впечатления солдат о второй мировой войне.
Это дело подхватили в Европе; особенно отличались в подобной работе французы. У них появился термин «серая история» — история больших социальных групп, крестьян, рабочих, которые не оставляют после себя воспоминаний. Французские историки собирали информацию о том, как жили французские крестьяне, например, что они ели, как обставляли свои дома, во что одевались. Подчеркну еще раз: их интересовала повседневность, но повседневность больших социальных групп, а не индивидуальные биографии, как собираем сейчас мы в Народном архиве.
У нас в шестидесятые годы тоже активно собирали воспоминания о войне, чаще всего воспоминания генералов, но и солдат тоже. Собирали солдатские письма, искали следы погибших и потерянных солдат. Порой натыкались на воспоминания «неудобные» — о СМЕРШе, например. Порой в них возникали эпизоды неожиданные, но с удивительной подлинностью деталей: на одном вечере, посвященном памяти о войне, женщина-партизанка, диверсантка из женской бригады, рассказывала, в каких чудовищных условиях они жили, как месяцами не мылись и однажды зимой, в сильный мороз, вышли к реке и стали прямо в проруби мыть свои завшивленные волосы. В 1975 году она про это рассказывала — надо же, говорит, многое забылось, а такую вот бытовую житейскую деталь до сих пор помню.
Почему дискуссия, о которой я упоминал, возникла именно в шестидесятые? Подросло сплошь грамотное, получившее неплохое образование поколение людей, привыкших читать и излагать свои мысли письменно. Раньше такого не было. И рванул поток документов личных и от личности исходящих. Вал писем захлестнул печать и все мыслимые инстанции. Жаловались, предлагали, протестовали, поддерживали. Не совсем понятно было, что теперь со всем этим делать. В специальных органах появились специальные люди, которые все эти письма читали; потом их просто уничтожали.
На самом деле в этих письмах материал совершенно бесценный. Как только возник наш архив, мы тут же договорились с журналом «Огонек», который во время перестройки начал публиковать прекрасные подборки писем с мест — мы у них стали все эти письма забирать. Забирали и у других журналов, да так бы и забирали до сих пор, если бы условия позволили.
Но государственные архивы продолжали сохранять только документы, исходящие от государства. Сколько бы там ни говорили о том, что историю делают рабочие и крестьяне, и как важна их роль, а в архивах личных документов рабочих и крестьян — считанные единицы, два-три десятка фондов, не больше. И были это документы какого- нибудь знатного сталевара. Героя Социалистического Труда, члена ЦК КПСС, то есть уже и не рабочего вовсе, а функционера все той же советской системы.
Так что дискуссия дискуссией, а практика архивного дела развивалась независимо от нее — там все равно все решало государство.
Потом началась перестройка. И пересмотр отношения к истории. К Сталину. Массовые публикации о сталинских временах. В том числе и архивные. В том числе и из архивов спецслужб. Появились легальные диссиденты со своими документами и со своими требованиями к государственным архивам. Потом начались разборки между самими диссидентами: кто на кого донес, кто сотрудничал со спецслужбами, кто герой, кто не герой и так далее. Такая возникла атмосфера всеобщего историке-архивного разбирательства — причем не только диссиденты, все общество в этом участвовало.
Возникло движение за то, чтобы открыть все архивы, и КПСС, и спецслужб, открыть полностью, чтобы никаких этих подлых тайн больше не оставалось. В то же время проблема — что дальше, что делать в демократическом обществе с этими самыми архивами. К сожалению, сегодня все возвратилось на свои круги, а тогда — тогда была эйфория. Что-то успели открыть — но, кстати, только то, что не имело никакого отношения к теперешней власти. Компартия казалась пройденным этапом, отмирающим институтом — ее архив и открыли. Потом некоторые директивные документы, связанные с репрессиями тридцатых годов; современные репрессии до сих пор держат под спудом. Ну и вся система доносительства в зародыше сохранилась до наших дней.
На волне той эйфории и был создан первый негосударственный архив. Создали его независимым от всех других структур власти, чтобы не носил ведомственный характер и был действительно независимым. По американскому образцу он обосновался при университете (Российском государственном гуманитарном), но через университет он не финансировался, хотя и был замкнут на интересы исследователей и ни на какие иные.

Зарождение и развитие капитализма сопровождалось как его циклическими кризисами, так и его возрождениями в новых обличьях. Однако в реалиях XXI века капиталистическая система, по мнению Пола Мейсона, более не способна адаптироваться к новым вызовам, что означает ее фактический крах. Раз так, то главный вопрос: каким может быть будущее, если капиталистические перспективы неутешительны? Есть ли шанс создать новую стабильную и социально ориентированную глобальную финансовую систему? В своем исследовании Пол Мейсон в качестве альтернативы предлагает модель «посткапитализма», основы которой можно найти в современной экономической системе, и они даже сосуществуют с ней.

«Настоящая книга представляет собою сборник новелл о литературных выдумках и мистификациях, объединенных здесь впервые под понятиями Пера и Маски. В большинстве они неизвестны широкому читателю, хотя многие из них и оставили яркий след в истории, необычайны по форме и фантастичны по содержанию».
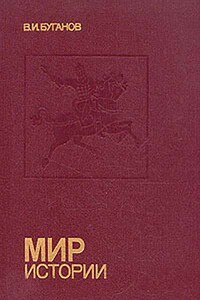
О пути, который прошла Русь на протяжении XIII–XV веков, от политической раздробленности накануне татаро-монгольского нашествия до победы в Куликовской битве и создания централизованного Русского государства, рассказывают доктор исторических наук И. Б. Греков и писатель Ф. Ф. Шахмагонов. Виктор Иванович Буганов — известный советский ученый, доктор исторических наук, заведующий отделом источниковедения Института истории СССР Академии наук СССР. Его перу принадлежит более 300 научных работ, в том числе пять монографий, и научно-популярные книги.

Человечеству в ХХ веке пришлось пережить многие войны, национальные конфликты и революции, сопровождавшиеся кровавыми расправами одних сторон над другими. Характер и масштаб их был разный, но в основе своей они нередко несли расовые противоречия.С тех пор научное сообщество в своем большинстве наложило гласные и негласные запреты не только на явно расистские учения, как, например, евгенику, но и на вполне научные области знания — среди них генетические, биологические, антропологические направления, связанные с развитием и особенностями человеческих рас.
![[Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](/storage/book-covers/28/286d3f6b7a977cd59136911f7f4c20b3b237d5d0.jpg)
Знать правду весьма полезно, особенно о своей жизни и своем здоровье. Это экономит силы, время и деньги, которых можно лишиться, гоняясь за химерами. Мифы о здоровье окружают нас везде, и их своевременное развенчание — залог полноценной жизни! В этой книге Андрей Сазонов собрал тридцать распространенных медицинских мифов, ложных утверждений, о который все не только слышали, но и успешно претворяли в жизнь. Какие продукты сжигают жиры, и есть ли смысл в перекусах? Вода обычная и минеральная — нужно ли нам выпивать 8 стаканов ежедневно? Седина от стресса и аллергия от тополиного пуха — где правда? Каждый развенчанный миф — шаг к осознанию того, как действительно нужно следить за своим здоровьем. Давайте жить качественно! Лечится тем, что помогает, покупать то, что нужно, делать то, что идет нам на пользу. Ударим по мифам научным подходом!
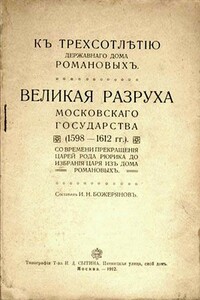
В русской истории 14 лет, прошедших с 1598 по 1612 год, называют «разрухою» или «Смутным временем». «Смятения» Русской земли, или «Московская трагедия», как писали о ней иностранцы, началась с прекращением династии Рюриковичей, т. е. после кончины Царя Фёдора Ивановича, и кончилась, когда земские чины, собравшиеся в Москве в начале 1613 г., избрали на престол в Цари Михаила Фёдоровича, родоначальника новой династии Дома Романовых.