Знак обнаженного меча - [29]
Спайк, однако, посмотрел на него совершенно неузнающим взглядом и обратился к капралу.
— Здорово, капрал. Никак, опять из этих попался?
— Ага — у ворот взяли. Полковой старшина на месте?
— Так точно, капрал. Я ему только что чаю отнес.
— Отлично. Сейчас я этого парня к нему доставлю и оформлю, а ты его потом отведи в каптерку да сообрази ему там обмундировку.
— Сделаем, капрал.
Рейнард, парализованный усталостью, мог бы уснуть прямо тут же, стоя без поддержки в дверном проеме. Если бы ему сейчас предложили на выбор: вернуться домой как ни в чем ни бывало или же поспать где-нибудь здесь на кровати, он бы, несомненно, предпочел второе.
— Давай, парень, шагай, — сказал капрал, спускаясь впереди него по короткому проходу. — Слышь, — добавил он потише, — серьезно тебе говорю — не гони ты старшине пургу. Ему это не по нутру, можешь мне поверить.
Сразу же за этим открылась какая-то дверь, и Рейнарда провели в комнатку, обставленную под канцелярию. За столом сидел мощного сложения мужчина средних лет с цепкими голубыми глазами и щетинистыми усиками.
— Что, капрал, еще один попался? Ладно, сейчас разберемся.
Старшина взял из боковой стопки чистый машинописный бланк, занес над ним авторучку и безразлично глянул на новоприбывшего.
— Фамилия? — спросил он голосом, не выражающим ничего, кроме желания разделаться с рутинным делом как можно скорее.
На Рейнарда вдруг накатила тошнота, голова у него шла кругом; он сделал последнее, предельное усилие собраться. Он ощущал почти необоримое искушение уступить, без дальнейших протестов сдаться этой власти, перед беспристрастными требованиями которой он был абсолютно беззащитен.
— Язык, что ли, проглотил? — спросил старшина, все еще держа ручку над чистым бланком.
Нетвердо стоя навытяжку, Рейнард помедлил, пару раз сглотнул и наконец заговорил.
— Я хочу знать, по какому праву меня сюда привели и почему меня допрашивают.
Старшина быстро глянул на него и снова уставился в стол.
— Лучше б ты, сынок, жизнь себе не усложнял, — сказал он.
Рейнард глубоко вдохнул, понимая, что следующие его слова будут решающими: ему придется или окончательно смириться со своим абсурдным положением, или же пробиться в какую-то лазейку среди преград недоразумений и беспочвенных предположений, быстро смыкающихся вокруг него. Он должен высказаться сейчас — иначе будет слишком поздно; но чем отчаяннее искал он слова, чтобы выразить свое возмущенное непонимание, тем бесповоротнее дар речи ему отказывал. Сам язык словно бы обесценился: одно слово, казалось, стоило не больше другого, и ни одно из них не выражало того, что он хотел сказать.
— Послушайте, — выдавил он из себя наконец и поразился резкому, неестественному звуку собственного голоса.
— Ну что еще? — старшина снова бросил на него нетерпеливый взгляд.
— Послушайте, я думаю, что произошла ошибка — очень серьезная ошибка.
Старшина коротко рассмеялся.
— Никаких ошибок, парень, — во всяком случае, не с нашей стороны. Если кто-то и ошибся, так это ты.
— Что вы имеете в виду?
— То, что и говорю, сынок. Какая нынче ситуация, ты знаешь — так что ты здесь только по своей вине. Правда, я-то думаю, тебе оно так и лучше, но дело в том, что мосты для тебя уже, так сказать, сожжены, и неплохо бы тебе с этим смириться.
— Но я не понимаю… Вы меня не можете заставить записаться: сейчас ведь не война. Почему вы мне не объясните, из-за чего меня тут держат?
Старшина цинично усмехнулся.
— Сам должен знать, — сказал он.
Рейнард помедлил.
— Послушайте, — сказал он спокойней. — Я хочу знать, почему меня зачисляют против моей воли. Я собирался записаться… первого декабря. Капитан Арчер мне вроде бы обещал — или почти что обещал…
— Капитан Арчер? — нетерпеливо перебил его старшина. — Какой такой капитан Арчер?
— Капитан Арчер — Рой Арчер — он…
— Рой Арчер?
— Ну да, он, может быть, теперь майор. Он сказал…
— Послушай, парень, единственный Рой Арчер, которого я знаю, это полковник Арчер, исполняющий обязанности командира района, так что думай, что говоришь.
— Но он был моим другом. Он… понимаете, я проходил курс обучения, с новым батальоном… Мы должны были записаться первого декабря, но я болел и…
— Ну теперь-то ты зачислен, — отрубил старшина, — так что кончай пороть чушь про полковника Арчера.
Рейнарду снова показалось, что он видит страшный сон. Он смотрел на полное, обветренное лицо, одновременно сознавая, как смыкаются вокруг преграды. За окном, на фоне темнеющего неба спокойно высились голые, неподвижные в безветренном воздухе деревья.
— Но я не понимаю, о чем вы говорите, — пробормотал он утомленно. — Что, вообще, произошло? Почему вы…
Старшина резко его оборвал, сделав знак капралу.
— Достань-ка нам копию той инструкции военного совета — ну ты знаешь: Z — косая — семь — ноль — один.
Капрал шагнул к буфету, вытащил из какой-то папки отпечатанный документ и протянул его через стол. Почти сразу же старшина принялся читать его вслух; относившийся к делу текст явно был довольно длинным, и он проговаривал его быстро, с особой монотонной интонацией, с какой зачитывал бы присягу или, допустим, предписание нарушителю. Какие-то отдельные фразы достигали сознания Рейнарда: что-то об «обязательной регистрации гражданских кадров… части на оккупированной территории уполномочены зачислять на военную службу или производить мобилизацию… вступающий в силу первого декабря… предписания на период чрезвычайного положения… под охраной армии на неопределенное время… дисциплинарные меры» — но об основном смысле всего отрывка он не мог составить ни малейшего понятия. Наконец старшина закончил.
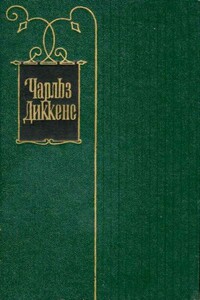
«Приключения Оливера Твиста» — самый знаменитый роман великого Диккенса. История мальчика, оказавшегося сиротой, вынужденного скитаться по мрачным трущобам Лондона. Перипетии судьбы маленького героя, многочисленные встречи на его пути и счастливый конец трудных и опасных приключений — все это вызывает неподдельный интерес у множества читателей всего мира. Роман впервые печатался с февраля 1837 по март 1839 года в новом журнале «Bentley's Miscellany» («Смесь Бентли»), редактором которого издатель Бентли пригласил Диккенса.
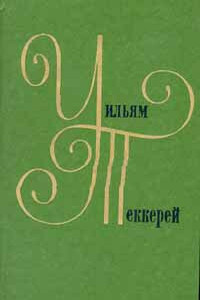
Сатирическая повесть, повествующая о мошенниках, убийцах, ворах, и направленная против ложной и лицемерной филантропии. В некоторых источниках названа первым романом автора.

Книга «Поизмятая роза, или Забавное похождение прекрасной Ангелики с двумя удальцами», вышедшая в свет в 1790 г., уже в XIX в. стала библиографической редкостью. В этом фривольном сочинении, переиздающемся впервые, описания фантастических подвигов рыцарей в землях Востока и Европы сочетаются с амурными приключениями героинь во главе с прелестной Ангеликой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
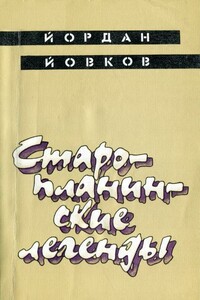
В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».