Змеелов. Последний переулок - [5]
— Нет.
— Ты какой приехал? Злой? Смирный? Счеты будешь сводить? Или простил? Меня простил?
— У меня к вам претензий нет.
— Ну-ну. Должны быть. Ты загремел, а я даже в свидетелях не побывал. Должны быть. Да какой спрос с больного! Верно, какой с меня спрос? Но я тебе помогу, Паша. Деньгами…
— Деньги у меня есть на первое время.
— Будешь жить пока у меня. В комнате сына. Он в армии. Там, правда, мой мотоцикл стоит. Отодвинешь его к стеночке. Да, вот так, отдал сына в армию, не стал ходы искать. Может, чему и обучит эта армия, пока отец болеет. В отца сын. А когда сын в такого отца, как я, отцу болеть нельзя. Что там, в Афганистане, ты ведь из тех мест?
— Кара-Кала на иранской границе. Там, как обычно, пограничники.
— Трудная служба? Жара, змеи вот. Еще зашлют парня в твою Кара-Калу.
— А сами собрались туда ехать.
— Я — другое. Мне — доживать. Ладно, хватит обо мне. Когда сына собираешься наведать?
— Мне отписано, чтобы исчез из его жизни.
— Гляди! Какая бабеночка была робкая, уютная. Ох, бабы!
— Она вышла за другого.
— Знаю. Ох, бабы, бабы! Из нашего профсоюза паренек, но какой-то никакой. Этот бы ножом себя по руке не полоснул, а уж в змееловы бы и подавно не сунулся.
— На сына все же взгляну. Хоть издали.
— Учти, сыну твоему помогали.
— Кто?
— Неважно. А она брала. Регулярно. Учти.
— Мне сестра посылала посылки все четыре года. Щедрые посылки. С ее-то зарплатой. Вы?
— Правильно, что помогала. Сестра, родная кровь.
— А ей помогали вы, так?
— Неважно, неважно, Паша. Мой тебе совет: встанешь на ноги, отбери сына.
— Думал об этом.
— Ты за эти пять лет, наверное, обо всем подумал. Сейчас здесь придется передумывать. Жизнь не обдумаешь. Человек предполагает, а бог располагает. Выпей-ка еще, и я с тобой… мысленно. Лена, где тот помидор? Тащи угощение!
Вошла Лена, неся на тарелочке крошечный ломтик помидора.
— А ему? Да не чинись ты, сестра милосердная. Ну, поухаживай за молодым человеком, окажи милосердие. Как же пить без закуски?
— Мне ничего не нужно, — сказал Павел.
— Мне нужно. В моем доме пьешь. Лена!
— Сейчас принесу. Может, отдельно пообедаете? Больные не всегда любят, когда рядом с ними едят.
— А я люблю.
— Да мне ничего не нужно, я сыт.
Сестра ушла, снова оставив после себя лекарственный шлейф и еще какое-то сродни запаху неудовольствие, которое исходило от нее, поскольку больной явно вел себя не по правилам.
— Уколы делает замечательно, — сказал Петр Григорьевич. — Рука крепкая, а душа добрая. Представляешь, девица.
— Точно установлено?
Впервые они рассмеялись, к мужскому потянувшись беседованию, когда вот коньячок на столе. Павел снова налил себе, хотя пить ему не хотелось. Не так, не с того все у него в Москве начиналось. К разному был готов, но не к поверженному этому человеку, к этой больнице на дому. Помнится, зарекался, что пить вообще не будет первое время в Москве, ясную сбережет голову. А только вошел в первый дом — и сразу за коньяк. И весь план разговора с Петром Григорьевичем — а план был — порушился. Так, глядишь, все и пойдет наперекосяк.
— Больше не пей, раз не хочешь, — сказал Петр Григорьевич. — И мне расхотелось. Что же, на новый виток пойдешь по старой дорожке или какую-то новую для себя жизнь наметил?
— Много чего наметил, мало чего могу. Надо начинать работать. А что я умею? Змей ловить в Москве негде. Экономист без права финансовой ответственности никому не нужен. В приказчики, может? Но тут тоже надо, чтобы захотели взять.
— Поглядим, помозгуем. Ты что-то пал духом, Паша. Вошел в комнату одним, а сейчас другой. Неужто из-за меня? Плох так?
Вернулась Лена, неся на подносе тарелки с закуской. Павел перенял у нее поднос, радуясь, что можно отвести глаза от спрашивающих, мудро-зорких глаз больного.
— Лена, может, и вы с нами? — Павел протянул ей свою рюмку.
— Я не пью! — отпрянула от рюмки сестра.
— Она у нас девица скромная, — сказал Петр Григорьевич.
— Вся беда от водки.
Павел вгляделся: оказывается, она была еще совсем молодая, ну, лет тридцать. И что-то даже миловидное было в ее лице, сжавшемся, наперед приготовившемся к морщинам.
— Мужика бы тебе, Лена, балагура, пьяницу, рукосуя, — сказал Петр Григорьевич. — Расцвела бы. Павел, займись. Хочешь, сосватаю? На старости лет будет кому уколы делать.
— Я на вас сердиться не могу, Петр Григорьевич, — обидчиво распрямилась сестра.
— Потому что больной?
— Потому что выздоравливающий. — Явная ложь смутила ее. — Как я надеюсь…
— Спасибо. Солгала, но спасибо.
— Я на вас сердиться не могу, а на вас сержусь, Павел. Простите, что без отчества. Нас не познакомили. Сержусь. Больной устал. В больнице бы вас к нему на три минутки допустили. И никаких коньяков.
— Сергеевич он по батюшке, — сказал Петр Григорьевич. — Потому я из вашей больницы и сбежал, что там и не лечат, и свободы нет.
— Сбежали, потому что могли себе позволить. Самоуверенности в вас много.
— Избывает, Лена, избывает. Уж и не знаю, чего там во мне много, осталось ли что.
— Человек вы большой силы, Петр Григорьевич, — уважительно сказала Лена. — Я потому от вас все и терплю, что сильный вы человек.
— Добрая душа, спасибо. Вот, Паша, ты появился, и Лену не узнать. Живое к живому тянется. Ленок, взгляни на его руки, на шрамы эти. Знаешь, кто он? Змеелов! Скажи, любят бабы такие руки, таких мужиков прокаленных?
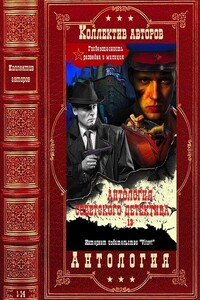
Настоящий том содержит в себе произведения разных авторов посвящённые работе органов госбезопасности, разведки и милиции СССР в разное время исторической действительности.Содержание:1. Лазарь Викторович Карелин: Змеелов 2. Лазарь Викторович Карелин: Последний переулок 3. Лазарь Викторович Карелин: Даю уроки 4. Иван Харитонович Головченко: Черная тропа 5. Лазарь Викторович Карелин: Младший советник юстиции 6. Николай Алексеевич Киселев: Ночной визит 7. Григорий Андреевич Кроних: Приключения Неуловимых Мстителей 8.

Читателю хорошо знакомы романы Лазаря Карелина «Змеелов» и «Последний переулок». Кроме них в книгу входит и новый роман — «Даю уроки», заключающий эту своеобразную трилогию. Автор верен главной своей теме: утверждению высоких нравственных норм нашей жизни, духовному разоблачению приобретательства и приспособленчества.

Настоящий том содержит в себе произведения разных авторов посвящённые работе органов госбезопасности, разведки и милиции СССР в разное время исторической действительности. Содержание: 1. Борис Михайлович Блантер: Схватка со злом 2. Аркадий Иосифович Ваксберг: Преступник будет найден 3. Рогнеда Тихоновна Волконская: Пианист из Риги 4. Теодор Кириллович Гладков: Последняя акция Лоренца 5. Вениамин Дмитриевич Дмитриев: Тайна янтарной комнаты 6. Лазарь Викторович Карелин: Младший советник юстиции 7.

Читателю хорошо знакомы романы Лазаря Карелина "Змеелов" и "Последний переулок". Кроме них в книгу входит и новый роман - "Даю уроки", заключающий эту своеобразную трилогию. Автор верен главной своей теме: утверждению высоких нравственных норм нашей жизни, духовному разоблачению приобретательства и приспособленчества.
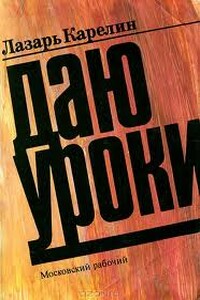
Читателю хорошо знакомы романы Лазаря Карелина "Змеелов" и "Последний переулок". Кроме них в книгу входит и новый роман - "Даю уроки", заключающий эту своеобразную трилогию. Автор верен главной своей теме: утверждению высоких нравственных норм нашей жизни, духовному разоблачению приобретательства и приспособленчества.
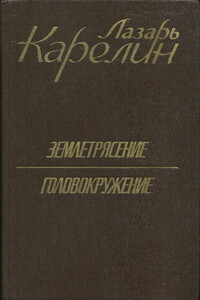
Значительная часть событий, изображённых в произведениях, вошедших в книгу, происходит в Средней Азии.Ашхабадское землетрясение 1948 года трагически ворвалось в судьбу героев, в одиннадцать секунд разрушив их привычный мир; острее легла грань, отделившая истинные ценности от фальшивых («Землетрясение»),В повести «Головокружение» писатель ставит перед молодыми людьми проблемы выбора между любовью, верностью идеалам и мещанским расчётом.И в повести и в романе, как и в других его произведениях, Лазаря Карелина интересует нравственно-этическая сторона поведения героев, наших современников.

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
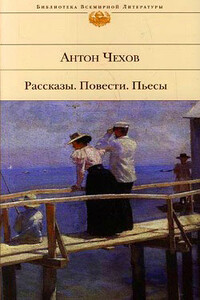
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.