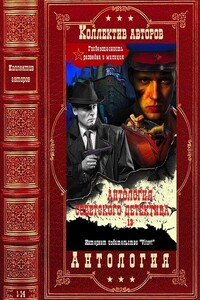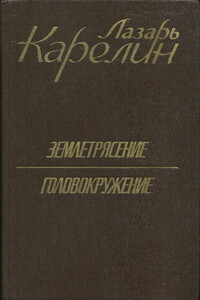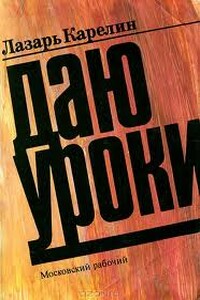— Помню, помню, Петр Григорьевич.
Рядом встала Лена. Она тоже наклонилась и поцеловала Петра Григорьевича, крестик выскользнул из ее разжавшейся ладони, упал к нему на грудь, затерялся в цветах.
— Господи, прими его грешную душу!.. — Лена торопливо отошла, крестясь.
Много народу столпилось вокруг гроба, а прощание вышло коротким, даже поспешным. Без обряда уходил Петр Котов. Не как коммунист, он им не был, не как верующий, он им не был, не прославленный в работе человек, он не был прославлен, напротив, ему слава бы повредила, не воевавший, он на войну не поспел, не было возле него никаких подушечек с наградами. Вот если бы поспел на войну, на года бы два-три раньше родился, может, с зачина этого и вся жизнь его иначе пошла? Поздно теперь об этом толковать. Хоть бы мотоциклисты, гонщики пришли бы к могиле проститься со своим товарищем, шлем бы на могилу положили, ведь дружное же племя, эти мотоциклисты. Но Петр Котов в одиночку гонял, он не был и из этого племени.
Стали опускать в могилу гроб, стали кидать на крышку громкие комья земли. Потом в три лопаты, кладбищенское и тут «трио» быстро засыпало гроб, быстро выровняло могильный холмик, быстро удалилось, получив у Митрича свой гонорар. Их ждала новая работа, людям свойственно умирать. Это «трио», кладбищенское, было собрано не из бедолаг, в него входили молодые и спорые мужчины, одетые в ладные спецовки, больше всего похожие на геологов. Возможно, они и были геологами или там какими инженерами, приватно подрабатывающими на кладбище? Спокойный был народ, корректный, хотя быстрая, азартная работа, выгодная работа нет-нет да и побуждала их к улыбке.
Провожавшие, проводившие тоже заспешили к воротам. Только близкие остались у могилы, но скоро и они пойдут. Их ждали у ворот, торопили взглядами. Предстояли поминки. Вот поминки — это был обряд, который годился и для Петра Котова.
Назад ехали быстрее, гнали машины, кое-кто из «Жигулей» перегнал автобус. В этой скорости угадывалось избавление, отрешение от трудного, тягостного, от печали.
И вот в той же комнате, за тем же столом, на котором стоял гроб, но теперь этот стол был укрыт белоснежной, накрахмаленной скатертью и был заставлен тарелками с едой, тесно уселись, сгрудились поминальщики и поминальщицы Петра Григорьевича Котова. Как говорится, ломился стол от яств. Хоть этим изобилием да можно было установить ранг человеческий усопшего. Если было что-нибудь в Москве дефицитного, копченые угри там среди лета, бледно-розовая семга, стерлядь, да, стерлядь, будто закружившаяся на блюде, вчера, ну, позавчера еще плескавшаяся в верховьях Камы, каспийские громадные раки, дальневосточные розовые креветки, балтийские золотые копчушки, — всё, весь рыбный дефицит был представлен на этом столе. Тут царили дары рек, морей и даже океана. И только громадное блюдо румяных пирожков на краю стола было не из рыбного парада. Водка стояла не в бутылках, а в хрустальных графинах, хрусталя было столько, что он сам между собой завел разговор, непрерывно позванивая.
Место всем за главным столом не хватило, хотя чуть ли не на коленях друг у друга сидели. Был накрыт и еще стол, были сдвинуты тумбочки, ступившие уже за порог комнаты, в коридор, но яства и там были все те же. Пожалуй, таким столом остался бы доволен и хлебосольнейший Лефорт, ожидающий к себе в гости друга своего царя Петра.
Как расселись за главным столом? А пожалуй, как во времена молодого Петра, когда еще сила была за боярами, когда чинились бояре, задами выжимая себе попочетнее место на лавке, поближе чтобы к царю. Во главе стола рядом с Тамарой Ивановной и Сашей круглился Митрич. Далее, по правую и по левую руку, строго соблюдая какой-то незримый, но явственный чин, уселись солидные, плотные мужчины, где-то у себя, в недрах торговой Москвы, так-то и так-то авторитетные. Павел присмотрелся, он знал тут многих, это были все больше рыбного товара мастера, «океанологи», как их шутя звали в торговом мире, хотя Петр Григорьевич никогда специально рыбой не занимался, заведуя небольшими магазинами, торговавшими фруктами, овощами и вином, ну и рыбными консервами.
Да, а где же сам Павел очутился, так сказать, друг покойного, участвовавший в несении гроба? А он у самого порога очутился, деля половину табуретки с каким-то моложавым, облыселым, вертлявым гражданином, украсившим свою длинную, кадыкастую шею официантской черной бабочкой. А где была Лена? Осталась на кухне, чтобы помогать хозяйке, которой было не до хозяйских забот. Сама, наверное, вызвалась, ее бы не посмели отодвинуть, задвинуть. А где была Вера? Ее напористый голос доносился тоже из кухни, но там она была за командира. Всё так, все на своих местах. Здесь, у порожка, и должен был сидеть прогоревший человек, из милости получивший от Митрича кой-какую работу, продавец сезонного товара.
Митрич поднялся, спросил строго:
— У всех налито? — Он выждал, когда у всех будет налито, переждал хрустальный перезвон. — Вот собрались мы тут все свои, чтобы помянуть нашего друга Петра Григорьевича Котова. Он у нас не лез в большие шишки, скромно трудился, но всегда мог принять друзей, всегда мог. — Митрич повел рукой, показывая столы. — Петром великим мы его звали. Заслужить было надо такое имя. Помянем! — Митрич зачем-то прикрикнул фальцетом: — Не чокаясь! — И снова прикрикнул: — Стоя!