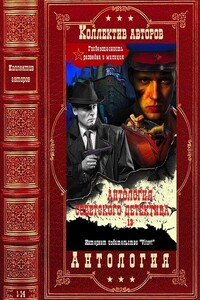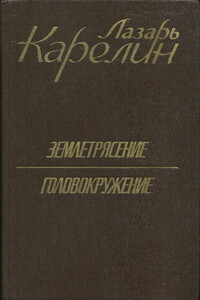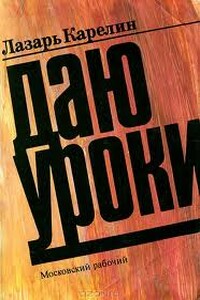— Но музыке тоже надо учиться, — сказал Павел. — Годы и годы.
— Можно и так, а можно и сразу. Смотря какая музыка. Теперь у нас другая музыка.
— У нас, это у кого же, у молодых? — спросил Павел.
— Да, Павел Сергеевич. Даже вам нас уже не понять. А вы еще не совсем старый.
— Все же не совсем? — улыбнулся Павел, невольно перенимая эту спокойную улыбку.
— Не совсем, — улыбнулся Саша, благожелательный, разве чуть-чуть ироничный.
— Что говорить, неглупых ребятишек мы слепили, — сказал Митрич. Молодость пройдет — возьмутся за ум. Время еще для них не подоспело. А ум есть и спокойствие есть. Ценное качество — спокойствие. Стал замечать: умная у нас подрастает молодежь, спокойная. Не все, конечно, некоторые. На них и надежда. Что ж, барабань, Сашенька, барабань, чини свои ящики, чини. А надоест, вспомни, что был у твоего отца верный друг — Борис Дмитриевич Миронов. Александр Котов, сын Петра Котова. Это звучит. Поможем!
Так они ехали, сидя в похоронном автобусе, так разговаривали. Пресеклась жизнь, продолжалась жизнь. Того ли хотел для сына отец, иного ли, теперь уже неважно, он уже ничего не может теперь поделать. Он мучился, умирая. Не только от боли. «Жаль сына… Жаль жену…» Он платил, расплачивался за всю свою жизнь этой предсмертной мукой.
Хоронили Петра Котова на Долгопрудном кладбище. Оно было за чертой Москвы, из недавних. Здесь еще не тесно было. Здесь можно было предать земле тело, а не всего лишь пепел от тела. Петр Григорьевич по старинке хотел лежать в земле, это была его воля, высказанная жене незадолго до смерти. Больше ни о чем он для себя не попросил. Больше никаких напутствий, никаких пожеланий. Как ни выпытывал Митрич, никаких пожеланий, никаких поручений. Хоть записочки какой-нибудь после него не осталось ли? Ничего.
Долгопрудное кладбище было расчерчено на ровные квадраты, и эти квадраты были уже в обступи молодых деревьев, уже рдели цветами, венками. Но все же это еще было поле, недавний луг. Годы должны были пройти, чтобы стало кладбище кладбищем, затенилось, укрылось деревьями. Пожалуй, когда это случится, сюда уже Москва подойдет, окружит это скорбное место высокими белыми домами, замкнет, как замкнула некогда окраинное Ваганьково.
— Здесь бы и себе место приискать, — сказал Митрич, подставляя плечо под гроб, когда выносили его из автобуса.
— Рано тебе, Митрич, об этом думать, — сказал кто-то из несущих гроб. Ты живучий.
— Бог про это знает, а не мы с тобой. Нет, сюда не лягу, церкви нет.
— Давно ли, Борис Дмитрич, стал ты верующим? — спросил Павел, они шли рядом, и Павел никак не мог попасть в ногу с семенящим Митричем, сбивался с ноги.
— Давно, а сейчас и подавно.
— Мода?
— Мода — это спрос. Знать бы надо, товарищ экономист с высшим образованием. Ну, распахнули павильон? Начали?
— Вроде бы.
— А Павел-то у нас, Шорохов-то, заведует теперь фруктовым павильоном! громко объявил Митрич, полагая, что эту новость в самый раз сейчас сообщить тем, кто нес гроб, и тем, кто был поближе, шел за гробом. — На пару с Веруней нашей взялись за дело! Такие пироги! Еще и сосватаем их, как это водится у танцевальных пар в фигурном катании. Чем не фигуристы?
Смешок прошел среди тех, кто нес гроб.
Павел оглянулся, не услышала ли Митрича Лена. Она шла далеко позади, понурившись, отрешенно. Кажется, не услышала. А в самом конце процессии шла Вера, окруженная мужчинами. Кружок ее вел бойкую беседу, там смеялись, воровато прихватывая ладонями смеющиеся рты.
— Поженим, поженим! — не унимался Митрич. — Переведем «де-факто» в «де-юре». — Он было засмеялся, тоненько, радостно.
Павел недобро глянул на него.
— Забыл, Колобок, по какой земле катишься? Гроб несешь.
— Не горячись, не горячись, — делаясь строгим, спохватился Митрич. Твоя правда, хотя он не услышит. Между прочим, он меня Колобком не называл.
Так подошли они к отрытой только что могиле, еще даже дорываемой — один из рабочих еще был там, в яме. Оттуда взметалась на отвал от невидимой лопаты земля.
Гроб установили на легкий помостик, сняли крышку, чтобы можно было в последний раз поглядеть на Петра Котова, в последний раз проститься с ним. Он незряче глядел в беспечальное летнее небо, он ничего уже не чувствовал, ни о чем уже не думал, но казалось, что думал, думал. Отмучился, но все еще не до конца.
Заплакала Тамара Ивановна, громче, чем дома, откровеннее, осмысленнее. Подошел сын, обнял ее за плечи. Он поступил, как ему полагалось поступить, но был он спокоен. Выдержка? Равнодушие? Неужели он не любил такого отца рискового, смелого, щедрого? Тогда кого же любить? Нет, это выдержка, это выдержка, парень в той поре, когда дорожат такими пустяками, как умение не выказывать свои чувства. Но лучше бы он заплакал.
Речей не было. Тут бы и сказать об ушедшем человеке, тут, под этим небом, среди этих могил слово бы прозвучало. Но тут говорить о Петре Котове ничего не стали. Неподалеку еще одна была свежая могила, там тоже только что установили на помосте гроб. Там звучали речи, ветер приносил обрывки фраз, там восхвалялась человеческая жизнь. Здесь прощались молча. Отговорили всё дома?
Павел подошел, наклонился, поцеловал холодный лоб, шепнул, сами слова вырвались: