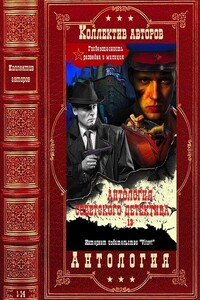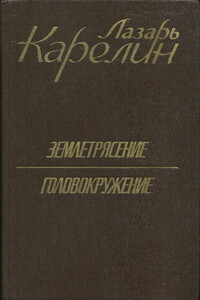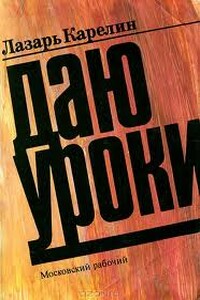— Сынок, — твердил Павел, — сынок!
Безлюдный двор — летом все ребята кто где, а с ними и все бабушки и дедушки — все же множеством глаз наблюдал за этой встречей отца с сыном. Много свидетелей набралось. И из окон двухэтажного дома смотрели, и из дверей во двор магазинов, с балкончиков во двор дома Шороховых, даже из кабин разгружающихся грузовиков. Вернулся Павел Шорохов. Отбыл свое. Пришел на сына взглянуть. Ну, а дома у него нет. Жена не дождалась. Она и не ждала, сразу выскочила за другого. Что-то теперь будет? И уже звонили Зинаиде соседки, те, кто знал ее рабочий телефон, вернулся, мол, с сыном твоим обнимается посреди двора. А оглянись, как это сделал Павел, никого во всем дворе, кроме него с сыном, безлюден двор. Но все же он почувствовал эти взгляды, эти шорохи, поползы, и он еще раз поцеловал сына в затылок, чтобы все знали. Потом они пошли через двор, и мальчик плечом касался руки отца, а щенок кружил, путался у них в ногах и был счастлив.
— Мать на работе?
— Да.
— А этот…
— Тоже.
— Скажи матери, что я дня через два позвоню ей, что мне надо с ней кое-что обсудить. Как ты щенка назвал?
— Тимкой.
— И у меня был Тимка.
— Я знаю. Фокс.
— А ты почему взял эрделя? Знаешь, каким он вымахает?
— С фоксом надо ходить на охоту. Ты же не ходил, и я не охотник. Эрдель сторожевая собака, друг.
— Правильно выбрал. Очень умная порода. Он и сейчас не дурак, а?
Сережа улыбнулся. В первый раз. В том зеркале, в котором стирал себя ластиком, чтобы вспомнить сына, сын его так улыбаться не умел, не получалось у Павла с улыбкой в том зеркале. А улыбался сын хорошо, но скупо, скупо. Вот когда начинаешь платить!
Все, хватит на сегодня. Больше никаких встреч, никаких разговоров. Предложи ему сейчас кто-нибудь из этих, из «солнцепоклонников», распить «на троих» или лучше на «двоих», он бы согласился. Но не предложат, не догадаются, что этот нарядный господин, прямой, ходко шагающий, что он почти с ними, почти ихний. Помня, что узнан, Павел круто свернул в противоположную от магазина сторону, пошел к Курскому. Вот уж кого-нибудь из магазинщиков он бы никак не хотел встретить. Пожалуй, лучше всего было вернуться к Петру Григорьевичу, к умирающему этому человеку, которому он был нужен и который ему был нужен. Но ни о чем не говорить. Сидеть рядом и молчать. Худо одному, худо другому. Веселые — к веселым, бедолаги — к бедолагам. Человечество делится на удачливых и неудачников. Только так. Все прочие деления от головы, придуманы шибко умными, но одни шибко умные среди удачников, а другие среди неудачников. Вот потому и разные у них теории. Одни хотят сохранить, другие хотят отнять. И вся наука, все там Гегели и Ницше, утописты и социалисты. Все проще простого, не выдумывайте. Не удержался в удачниках — лети к неудачникам, а там уж как угодно исхитряйся, чтобы вернуться назад, в счастливые края, к кисельным берегам. Совесть, честность, про русскую интеллигенцию разговоры — это все слова. Родного сына не узнал вот это настоящее. И то, что он, сын, с тобой, как с чужим, заговорил — вот это беда, горе, неудача всей жизни. Любой ценой, любой ценой!.. А что он может? Куда идти? С чего начать?
Павел поднял руку, ловя такси. Зеленые огоньки проскакивали мимо него, будто угадывая, что он из племени неудачников. Наконец сжалился один частник, хмурый, небритый владелец старого «Москвича», грязно-красно-бежевого. По седоку и карета.
— Куда?
— В Медведково.
— Не пойдет.
— Червонец.
— Ну, садись.
Всю долгую дорогу проехали молча. Только уже в Медведкове процедил Павел адрес, и только тормозя, сказал ему небритый, читая в душе:
— Не горюй, парень, образуется.
Лена встретила в дверях. Всмотрелась в него, распахнув глаза, чуть принюхалась, но ничего не сказала, не стала укорять, не стала спрашивать, хотя ей известны были его планы — сперва новый костюм, потом к другу, потом к сыну.
— Каков наряд? — спросил Павел, выжимая улыбку.
— Артист, прямо артист, — сказала Лена.
— Всемогущая штука деньги.
— Верно, кто этого не знает. Вам кофеек сварить или чай?
— Чай. Крепкий. Самый крепкий. Сейчас бы зеленого чая, нацедить бы его из чайника в пиалу и без сахара, сахар не полагается. Совсем светленький чаек, а горчит, все в тебе промывает. Можно к Петру Григорьевичу?
— Заходите. Но только на минуточку.
— Я рассказывать ничего не буду, посижу, помолчу.
— Ну-ну.
Петр Григорьевич встретил слабо дернувшимися губами — это он улыбнулся.
— Слышал, про гок-чай толковал. Целебный напиток, верно. Надо будет сказать Тамаре, чтобы раздобыла. Попью и я с тобой.
— Самым лучшим номером считается сороковой. Да где в Москве его достать, он весь в Средней Азии оседает.
— Достанет. Если надо будет, в Ташкент позвонит, в Бухару. Вот только до господа бога никак не дозвонюсь. Не хочешь рассказывать?
— Не хочу.
— Помолчим тогда.
— Помолчим.
И стали молчать. Павел сел на стул в ногах, уставился в стенку, выбрав пустое место, где не было фотографий, мебели, картин, ковров. Узенькая полоска всего и отыскалась, полоска дорогих, под штоф, обоев, тоже, как и костюм, из маленькой, трудолюбивой Финляндии. А Петр Григорьевич лежал с закрытыми глазами.