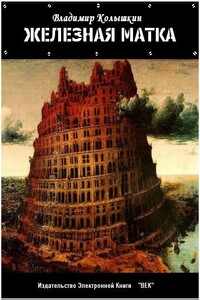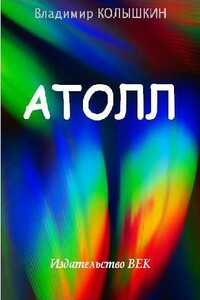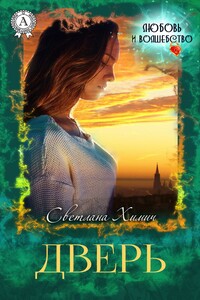— Слово предоставляется обвинительной стороне, — объявил секретарь по знаку Председателя. В одном из темных углов воспылал свет и на арену вышел прокурор — в черной мантии с кровавым подбоем.
— Подсудимый, в своих показаниях вы пишите — «Дверь к ней была открыта: она хотела слышать меня. Безмолвно, с жалостью и благоговением, я приблизился к её ложу. Она плакала на своем убогом одре. Над горькой тайной любви…»
— Это я написал? — удивился подсудимый.
— Подтверждаете ли вы свои показания? — спросил Главный Судья.
— Нет! — отверг подсудимый и пояснил. — Да мне в жизни так не написать… складно да заковыристо.
Между тем прокурор продолжал зачитывать саморазоблачающие показания подсудимого: «Её стекленеющие глаза уставились из глубины смерти. Призрачные облики на искаженном мукой лице…»
— О нет! — с жаром отперся Степан. — Это не я писал, это подлог!
Для большей убедительности он обратился к присяжным заседателям и получил в ответ сочувствующий блеск пенсне Антона Павловича.
Судьи посовещались. Слово предоставили защите. Озарился светом другой угол, и на сцену выступил адвокат в белой мантии с кровавым же подбоем.
— Высокий Суд, господа присяжные заседатели, дамы и господа… Взгляните на моего подзащитного, на этого, с позволения сказать, сапиенса…
Адвокат минут пятнадцать добросовестно принижал, если не унижал, умственные и художественные способности поэта Одинокого. Вдоволь поиздевавшись, он, наконец, спросил господ присяжных заседателей, мог ли его подзащитный написать те высокохудожественные строки, которые ему предъявляют в качестве его же собственных показаний? Спросите, спросите моего подзащитного. Не желаете? Хм… Тогда я сам его спрошу. Сознайтесь, подзащитный, ведь вы бездарны и, в сущности, малограмотны?
— Увы, это так, — опустил голову поэт Одинокий. Но вдруг зародившееся чувство справедливости всколыхнуло его оклеветанную душу: — Сказать по правде, не совсем чтобы безграмотный… кое что читал…
— Что же вы читали, милостивый сдарь? — улыбчиво полюбопытствовал Судья с бакенбардами.
— Да вас-то, уважаемый Александр Сергеевич, уж о-го-го сколько читал! Все стихи и поэмы, короче говоря, все полное собрание сочинений… Хотя, признаюсь, что в столице вас читают мало, все больше, знаете ли, по окраинам…
— Вот как? Ну колмык-то меня читает?
— Думаю, да.
— И угрюмый финн?
— Эти само собой и еще горячие эстонские парни…
— Рад слышать. — Довольный Пушкин откинулся на высокую спинку судейского кресла. — Впрочем, мне это безразлично. Хвалу и клевету приемлю равнодушно… Мне предостаточно моего памятника. Помните? «Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа…»
— «…Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столба!» — продолжил Степан.
— «Столпа», голубчик, а не столба, — мягко поправил Пушкин.
— Ох уж мне эта полуобразованщина, — проворчал Л.Н. Толстой. Может, он ревновал? И Степан поспешил его заверить:
— Вас, уважаемый Лев Николаевич, тоже всего читал. «Войну и мир» два раза, «Анну Каренину — полтора раза. «Воскресенье», «Казаки», «Хаджи-Мурат», «Севастопольские» и прочие рассказы…
— Хм, — сказал Председатель Суда и пригладил бороду. Видно было, что он доволен, что его читают и чтят потомки, несмотря на то, что прошло без малого два века. И вместе с тем эти простые, но очень глубокие чувства неприятно всколыхнули душу графа, будто кто-то тронул глубоко засевшую корягу и потревожил болото прошлого, подернутое ряской забвения, и давно забытое всплыло булькающими пузырями, лопнуло на поверхности памяти и завоняло протухшим яйцом…
Федор Михайлович опять болезненно кашлянул, в том смысле, что уклонились от темы. Но Степан и его поторопился обрадовать — мол, читал бессмертные произведения великого классика. И «Преступление и наказание», и «Братья Карамазовы», разумеется. «Бесы»…
— Впрочем, каюсь, «Бесов» не одолел, на половине застрял… — честно сознался подсудимый.
— Да как же вы, мил человек, «Бесов»-то не одолели?! — вскричал Федор Михайлович. На лбу у него вздулась жила.
— Да уж так получилось, — столь же искренне огорчился подсудимый. — Не осилил-с…
В зале зашумели. Кто-то сказал: «Расстреливать за это надо бы…». Другой подхватил: «Позовите палача».
Призывая к порядку, Председатель постучал деревянным молотком.
— Вот тут Раскольников сидит, — сказал третий из публики, — у него наверное топор с собой?..
— Вообще-то я убиваю только старушек, — сказал Раскольников, почесывая пятерней под мышкой. — Из принципа. А он все-таки свой брат-литератор.
Раскольников застегнул пуговицы на ветхом своем кафтане и продолжил гордо:
— И потом, может быть, у него есть свидетельства о его непричастности к убийству бедной девушки. Может быть, у него были смягчающие вину обстоятельства? Может быть, наконец, он ПРАВО ИМЕЕТ!..
— Опять Родька свою теорию разводит… — сказал кто-то из публики.
— Возможно, у подсудимого есть алиби, — догадался спросить один из присяжных. — Подсудимый, у вас есть алиби? Или, может быть, имеются причины, побудившие вас убить жертву в целях самозащиты? Расскажите. Раскройте душу…
— О Господи! — воскликнул страдальчески Степан. — Я этого не выдержу. Я вам не Фома Аквинат, измысливший пятьдесят пять причин. Дайте мне сперва принять пару кружек. Я с утра не жравши и не пивши.