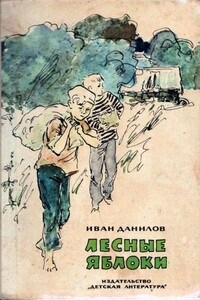Зимний дождь - [42]
— От матери чего ушел? — спросил я.
— А-а, — махнул он рукой, — Ленка чего-то мудрит. — Не желая посвящать меня в семейные неурядицы, предложил: — Давай отдыхать. Значит, с утра садись с Пашкой Каменновым. На пары пойдете. Каменнов — мужик хороший… Фу ты, — спохватился Николай, — он же с нами учился, знаешь…
У порога, при входе в дом, Николай взялся за рукав моего плаща:
— Слушай, а ты не меняешь кукушку на ястреба? Ну, что приехал сюда? — пояснил он.
— А ты зачем вместо премий получаешь взбучки? — спросил я.
— Э-э, — засмеялся Николай, — я за хлеб дерусь. За хле-еб, — нажал он на последнее слово.
— Все, Коля, хлеб.
Спорить со мной он не стал.
Тянулись дегтярно-черные, непроглядные ночи, такие всегда в пору чернотропа. Но для Николая Буянова казались они небывало зябкими, тоскливыми. Еще недавно, по вечерам, мы садились с ним на порог бригадного дома, неторопливо курили цигарки, вдыхали аромат свежей соломы и молча наслаждались задумчивой тишиной степи. Теперь же, сразу после ужина, бригадир ничком ложился на свою кровать с тощим матрацем, прятался под одеяло, притворялся спящим. А стан жил своей жизнью: трактористы крутили ручку хрипловатого приемника, рассказывали анекдоты, кляли бога и боженят. К часу, примерно, стан затихал, и Николай, выпростав из-под одеяла голову, глядел в маленькое оконце, залитое густой теменью, на тусклые огоньки тракторов, работающих в ночную смену.
Во сне трактористы торопливо бормотали, сдавленно смеялись, всхлипывали, и Николаю, наверное, думалось, что и во сне каждый из них по-своему обижается на него или переживает позор.
Неделю назад в районной газете напечатали о нашей бригаде фельетон В. Торчкова. Пачку газет вместе с харчами привез в бригаду Дорофей-батюня, он теперь работает на лошадях.
— Ну и ославили вас, — сказал он, разворачивая «Ударник». Парни как раз обедали, но тут же бросили свои узелки. Отодвинули махотки, сгрудились возле Тольки Щеглова, перехватившего газету. Он стал читать фельетон вслух, не стесняясь присутствия самого бригадира.
«Сейчас взорвутся, — думал я, — начнут ругать корреспондента, ведь нельзя ж было сеять…»
Но, дочитав, парни молча начали расходиться. Пашка Каменнов прямо из горлышка бутылки допил молоко и, горбясь, пошел к скирдам, где стоял наш трактор. Щеглов еще немного повертел газету в руках и с откровенной издевкой бросил:
— Не смешно… Но наше дело — телячье, — и, показав квадратный рыжий затылок, удалился.
Оставшись один, Николай сел на оглоблю дрожек, вытер грязной ладонью лоб и матерно выругался.
С того дня и мучился Николай, ходил хмурый, неразговорчивый, почти не спал по ночам. Да и мне передалось его настроение, плохо осенью жить в степи, холодно, одиноко.
В эти дни, в эти вечера мне часто думалось о Грачеве. Рассказ Николая неожиданно больно задел за душу, и, наверно, оттого в памяти всплывали давние встречи с ним, возможно, и потому еще думал я о нем, что здесь, на этой земле, в этой же бригаде начинал хлеборобствовать он после войны, и многое из того, чем тогда жили и о чем пекутся ныне обливцы, связано с именем бывшего агронома.
…Подступали сумерки, мы с Павлом допахивали клин возле Денежной горы, когда я обратил внимание, что раньше дороги между полями были вроде бы намного шире.
— Не забыл, как пацанами ходили сюда за арбузами? — напомнил я Каменнову. — Разгонит, бывало, вся орава, человек двадцать, сыпанет на дорогу — и не тесно. Может, со страху казалась дорога такой просторной?
— Страх тут ни при чем, — деловито отозвался Павел, — это Борис Сергеевич урезал метровки. Все углы, каждый клочок земли в дело пустил…
Дня через два или три опять зашел разговор о Грачеве. Вспомнили, как позапрошлым летом проездом оказался в Обливской министр и все удивлялся, как могло случиться, что новый сорт пшеницы, тот, который пока выращивают лишь на опытных станциях, уже сеют в колхозе. Восстанавливалось все в подробностях: как соседи отказались получать неизвестный сорт семян, и как агроном наш без ведома Комарова, на свой страх и риск, привез их, а тот, узнав, уговаривал его не мудрить, и как потом председатель фотографировался с министром на поле, где выросла небывалая для наших мест пшеница.
Борис Сергеевич цепко держался в памяти людей, они продолжали быть вместе с ним, жили теми заботами, что вчера волновали его и тревожат их сегодня. И это всеобщее уважение к его делам, а вернее сказать, восхищение характером, передавались мне.
В последние годы мы с Грачевым встречались раза два-три, не больше, да и то мимолетно, даже поговорить как следует нам не удавалось. Зато в пору моего детства я видел его почти каждый день, а точнее, почти каждый вечер. Наша хата и хатенка отца Бориса Сергеевича стояли, да и по сей день стоят рядом, метрах в пяти одна от другой, окно в окно. В тридцатых годах, в пору коллективизации, появился в Обливской новый человек, Сергей Грачев, вдовец с сынишкой лет семи. Наскоро поставил он себе на пустоши домик, вступил в колхоз, хотел накрепко осесть здесь. Специальность у него была редкостная и не очень выгодная для наших степных мест — столяр-краснодеревщик, и хотя он без понуканий брался и за плотницкое дело, и шорничал, особого рвения к этим занятиям не проявлял, видно, все-таки тосковал без облюбованного ремесла. Бывало, месяцами пропадал Грачев-старший, в станице люди говорили, будто уезжал он поближе к лесной стороне, отводил делом душу. Сына своего, как только тот подрос, он отправил на учебу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
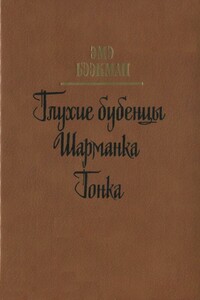
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.