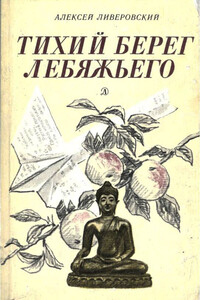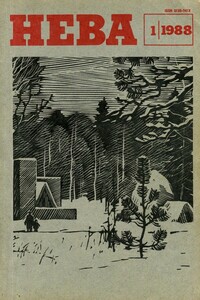Журавлиная родина - [29]
— Мы подумали, Константин Николаевич, пораскинули так и сяк. Нет, не подходят вам эти собаки. Вам на годы надо, а Днепр староват, к Висле другого в пару подобрать трудно…
Пазанок
Собаки нашли запавшего беляка. Я был уверен, что гончие ведут прямо на меня, — держал ружье на изготовку и, медленно поворачивая голову, старался как можно глубже взглянуть в тесноту еловых стволов, ожидая зайца.
Выстрел грянул впереди и слева. Гон смолк. На опушку вышел Василий Николаевич. В одной руке он высоко держал белячка, другой отмахивался от прыгающих на него собак. На лице охотника, не по возрасту молодом и розовом, сияло счастье. Клинышек сивой бороды смешно и задорно торчал над воротом ватника. Мы сошлись на сухой полянке. Пора бы отдохнуть.
— С полем, Василий Николаевич! Я отпазанчу[6] зайца и схожу за водой, а вы, пожалуйста, займитесь костром.
Мой товарищ, видимо, удивился и тому, что у меня есть с собой все для чаепития, и вообще манере среди осеннего короткого дня заниматься этим делом, но ничего не сказал, вынул большой нож и начал быстро и сноровисто вырезать рогатинку.
Я отрезал у зайца пазанок, разорвал его по пальцам надвое и кинул собакам. Малик проглотил свою долю, как глоток воды. Смётка схватила, оттащила в сторону и бросила в траву.
— Не ест, — сказал Василий Николаевич, — и правильно делает. Что там есть? Кости, жилы да шерсть. Сухота, водой не запьешь. И за такую работу!
Чай поспел быстро. Мы закусили, прилегли с папиросками у костра.
Отшумел, отгулял буйный ветер-листодер, опять потянулись тихие деньки, только лес уже не тот: как-то распахнулся он, стал просторнее и грустнее. Сквозит широкая гладь болота через прозрачную березовую кромку. Серым частоколом стоит оголенный осинник. Только на одной вершине светится несколько листиков. Один, два, три… двенадцать. Словно стайка лимонно-желтых бабочек присела на голые сучья и трепещет легкими крыльями.
Скоро, очень скоро уже по-зимнему посинеет небо и закричат медными голосами невидимые за облаками лебеди. Запрыгает на пожухлой листве ледяная крупка. В обнаженных вершинах медленно затанцуют первые лохматые снежинки.
— Собаки всё понимают, только мы этого не замечаем или не хотим замечать, — неожиданно начал Василий Николаевич.
Я вздрогнул, открыл глаза и только тогда понял, что задремал.
— У меня много лет жил выжлец. Сорочаем звали. Он шел от Выплача и Утешки. Замечательный, опытный, верный, и голос хороший: двухтонный и очень доносчивый — за два километра в тихую погоду слышно. Бродили мы с Сорочаем — я тогда посвободнее был — считай, всю осень, от начала охоты до глубокого снега. Поднимет Сорочай косого — никогда не бросит, как тот ни вертись. Гнал и по мокрому и по сухому. Как поднимет, знаю: заяц мой никуда не денется. Стукну белячишку, отпазанчу, даю Сорочаю лапку. И все мне казалось, что он неохотно берет и как-то странно на меня поглядывает. Вот как давеча ваша Смётка! Поймает Сорочай пазанок, помусолит, похрустит, вздохнет и на меня так косо взглянет, вроде как сказать хочет: «Я, мол, понимаю: так полагается, — но несправедливо. Забота моя, работа моя, а дальше что? Тебе, хозяин, вся тушка в мешок, а мне хрящ да меха клок».
Василий Николаевич встал и поправил костер. Солнце грело, но нам было как-то зябко. Малик потянулся, подошел поближе к огню, повертелся в траве и с легким, довольным урчаньем лег снова. От его мокрой шерсти шел пар.
— Так вот, — продолжал Василий Николаевич, — охотились мы много лет. Однажды беляк вышел на меня на большом ходу — в частом ельнике. Я поторопился, ударил раз за разом, нашел на земле клочок шерсти, и больше ничего. Сорочай с голосом повел дальше, без остановки, угнал далеко, еле слышно, и замолк. Я подаюсь туда. Шумлю, кричу… нет собаки! Нечего греха таить — отдуплетил два раза по еловым шишкам, — нет выжлеца, пропал. Ни слуху, ни духу. Около часа прошло, идет Сорочай через болото прямо ко мне и что-то в зубах несет. Подбежал, бросил у моих ног заячий пазанок и — хотите верьте, хотите нет — улыбнулся во все зубы. Пошли мы домой, — какая охота, когда у выжлеца от съеденного зайца брюхо до полу. Назвал я этот день «Днем справедливости», а пазанок — мою долю в этой охоте — домой снес и храню как память!
Охотничий рог
Он всегда сидел на кровати у стола и внимательно, неотрывно смотрел на печную занавеску. Занавеска не шевелилась, и за ней, на печи, кроме подойника, лучины и стоптанных валенок, ничего не было. Но не все ли равно, на что смотреть, если глаза ничего не видят?
Годы почти не тронули его густых, отливавших цыганской синевой волос, но глубокие складки на лбу и щеках пересекались частой насечкой морщин, а тяжелые, словно уставшие, кисти рук почти всегда лежали на коленях.
Его час приходил под вечер. Изощренным, необыкновенно тонким слухом, раньше всех, улавливал он наши шаги.
— Саша! — говорил он, не шевелясь и не оборачиваясь. — Подогрей самовар, охотники идут.
Мы вваливались в избу с клубами морозного пара, шумные, веселые, холодные. Собаки прорывались в комнаты, постукивая льдинками, пристывшими к лапам.
Старик не двигался, только чуть улыбался, улыбался потому, что тетерева пахли снегом, зайцы — кровью, собаки — сладковатым медовым запахом псины, и все это было ему знакомо и любо с давних пор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
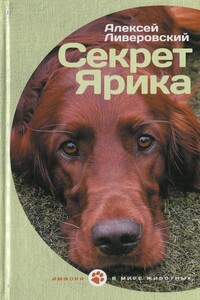
В книгу Алексея Алексеевича Ливеровского (1903–1989), известного отечественного химика, лауреата Сталинской премии (1947), писателя и увлеченного охотника, вошли рассказы о собаках и охоте.
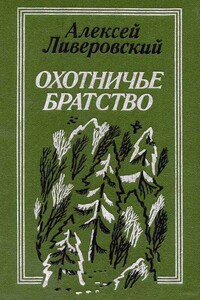
Проза одного из старейших ленинградских писателей Алексея Ливеровского несет в себе нравственный, очищающий заряд. Читателя привлекут рассказы о Соколове-Микитове и Бианки, об академике Семенове, актере Черкасове, геологе Урванцеве, с которыми сблизила автора охотничья страсть и любовь к природе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Советские специалисты приехали в Бирму для того, чтобы научить местных жителей работать на современной технике. Один из приезжих — Владимир — обучает двух учеников (Аунга Тина и Маунга Джо) трудиться на экскаваторе. Рассказ опубликован в журнале «Вокруг света», № 4 за 1961 год.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».