Живой меч, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста - [46]
Доктор удивленно воззрился на умирающего:
– Дорогой маркиз, вы ведь уже не спите. Очнитесь!
Сад горько усмехнулся:
– Теперь мне кажется, что вся моя жизнь – сон. И скоро сон жизни перейдет в сон вечный. А если это так, разве я могу проснуться? Даже для того, чтобы встретить свой конец? Теперь я вижу, как был самонадеян тогда, в дни своей молодости, когда писал о некоем умирающем, отринувшем ложные проповеди обманщика в рясе – священника, пришедшего причастить и исповедовать его и вместо этого встретившего смерть в сладострастных объятиях нескольких специально приглашенных для этого гурий! Тогда я думал: вот достойный конец! – но разве то, о чем я писал, ныне в моих силах, в силах умирающего Донасьена де Сада? Что с вами, доктор? Кажется, вы недовольны словами человека, находящегося на краю могилы? Вы, наверное, ждали других слов… Я кажусь вам чудовищем?…
– Вы кажетесь мне больным, – сухо ответил доктор.
– Больным? То есть умалишенным? Пусть так. Но кто сделал меня таковым? Не вы ли, добропорядочные граждане, посадившие больного под замок на целые десятилетия? Вот уже скоро будет двенадцать лет, да, двенадцать лет, как я нахожусь здесь, в Шарантоне. А до этого были: Венсенский замок и замок Сомюр, крепость Пьер-Ансиз и Миоланская крепость, и еще Бастилия, а еще целая цепь революционных тюрем: Мадлонетт, Сен-Лазар, Пикпюс, Бисетр, – устанешь и перечислять… Я сосчитал… двадцать девять, почти тридцать лет… Тридцать лет собственной литературной жизни я провел в четырех стенах с окнами, отделенными от настоящей жизни решетками! [45] А за что? Да за то же, за что посадили Матер де Латюда, за иной образ мыслей, то есть ни за что! Старая власть продержала де Латюда в Бастилии тридцать пять лет, новая после взятия крепости носила на руках, чтобы хотя бы дать старику умереть на свободе! Но мне и это не грозит, – в Венсенском замке Мирабо, сидевший там, кстати, за то же, что и я, то есть за иной образ мыслей, касающихся слабого пола, как-то сказал мне: «По тебе, де Сад, видно, что умрешь ты в крепости». Он немножко ошибся, этот самовлюбленный говорун [46]. Куда там старому порядку с его letres de cachet, с его арестами и заключениями по одной королевской прихоти до новых человеколюбцев из третьего сословия с их перманентной гильотиной! Впрочем, и при старом порядке однажды мне уже отрубили голову, тело сожгли, а прах развеяли по ветру… заочно, конечно. А вот попади тогда в руки королевского правосудия в Эксе не мое чучело, а я сам, как вы думаете, говорил бы я сейчас с вами? А с чего все началось? То, что чуть было не довело меня до костра? Представьте себе, месье доктор, все началось со скуки. Нам было абсолютно нечего делать – потомкам древнего провансальского дворянства, еще не окончательно разорившимся; вот мы и баловали себя, чем только могли… Вы так ничего и не скажете, месье Рамон?
– Дорогой маркиз, я все это уже слышал от вас и не по одному разу, – ответил доктор, кривя губы.
– Разве? Да, наверное, вы правы… Но не знаю, почему у меня сейчас вдруг появилось желание исповедоваться, и если не священнику, то хотя бы врачу (а кому же еще может покаяться сумасшедший де Сад?). Несмотря на горячку, я, кажется, еще довольно свободно могу изъясняться. Видимо, потому, что всегда был натурой горячей и не в меру пылкой, даже чересчур пылкой! Обычные развлечения моих аристократических приятелей доставляли мне так мало радости! Я долго размышлял над этим и, наконец, понял: заранее поставив себя над всеми (а кто может сомневаться в моей гениальности?), я тем самым обрек себя на полное одиночество. Ни одна женщина не могла стать мне по-настоящему близкой. Кто изначально был в этом виноват – мое ли несносное воспитание или мой характер, – не знаю. Увы! Вот почему, когда меня перестало удовлетворять обычное совокупление (сказать по правде, оно никогда и не доставляло всей остроты ощущений!), я был вынужден искать более пикантных способов. О, мои «опыты» были совершенно невинными! Ну, преподнес кое-кому возбуждающие конфеты со шпанскими мушками, так что все общество стало кидаться друг на друга; ну, выпорол немного проститутку, а после этого сам вручил ей плеть для собственной, ха-ха! – флагелляции; ну, на худой конец, чиркнул разок-другой ножичком по руке или подпалил кожу свечкой у женщин соответствующих профессий, да и то слегка. Меня еще обвиняли в содомии… так про нее даже и упоминать бы не стоило, – в нашей среде содомским грехом страдали если не каждый второй, то каждый третий. Вот, в сущности, и все…
– И все, – машинально повторил доктор. На его лице читалось отвращение, но он ничего не сказал.
– Мои выводы, сделанные, таким образом, эмпирическим путем, были как нельзя более просты. Я понял, что не может быть совокупления без боли, парной любви – без охотника и жертвы, сладострастия – без чувства страха. При этом если ты хочешь мучить во имя любовного наслаждения, то нельзя мучить свою жертву без того, чтобы она не мучила тебя. Мне казалось, что и в женщину я могу влюбиться только при виде ее мучений, только если она – жертва. Во всякой мерзости ваш покорный слуга старался найти что-то притягательное: я думал о совокуплении с калеками, я хотел получать наслаждение отвращением, например, в человеческих отправлениях. Идеалом для маркиза де Сада стал следующий принцип: отдаваться всем, кто тебя хочет, брать всех, кого хочешь сам. Правда, тут он вступал в противоречие с другим моим принципом: принципом абсолютного господства над рабом-жертвой. Зато закон этот имел и обратную силу: следуя ему, господин, обращенный в жертву, не мог бы претерпеть никакого зла: самые пытки доставляли ему удовольствие, палач становился его рабом, а эшафот приносил наивысшее наслаждение.

Превосходный исторический рассказ. Начало войны. Гитлеровские полчища рвутся вглубь страны. Потерпела крах идея экспорта Революции и товарищ Сталин мучительно ищёт выход и размышляет о случившемся.
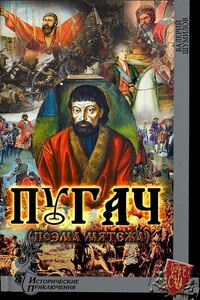
Поэма «Пугач», имеющая подзаголовок «Поэма мятежа», восходит к лучшим образцам отечественной словесности и стоит в одном ряду с такими выдающимися произведениями о Емельяне Пугачёве, как одноимённая поэма С. Есенина и повесть Александра Пушкина. При этом поэма совершенно исторична, как по событиям, так и по датам.
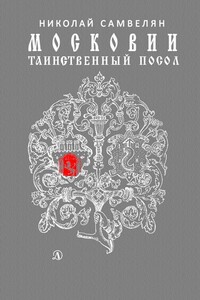
Роман о последнем периоде жизни великого русского просветителя, первопечатника Ивана Федорова (ок. 1510–1583).

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Радич В.А. издавался в основном до революции 1917 года. Помещённые в книге произведения дают представление о ярком и своеобразном быте сечевиков, в них колоритно отображена жизнь казачьей вольницы, Запорожской сечи. В «Казацких былях» воспевается славная история и самобытность украинского казачества.
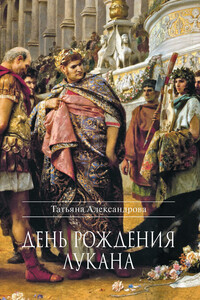
«День рождения Лукана» – исторический роман, написанный филологом, переводчиком, специалистом по позднеантичной и раннехристианской литературе. Роман переносит читателя в Рим I в. н. э. В основе его подлинная история жизни, любви и гибели великого римского поэта Марка Аннея Лукана. Личная драма героев разворачивается на фоне исторических событий и бережно реконструируемой панорамы Вечного Города. Среди действующих лиц – реальные персонажи, известные из учебников истории: император Нерон и философ Сенека, поэты Стаций и Марциал, писатель-сатирик Петроний и др.Роман рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей.

Париж, XVII век, времена Людовика Великого. Молодой переплетчик Шарль де Грези изготавливает переплеты из человеческой кожи, хорошо зарабатывает и не знает забот, пока не встречает на своем пути женщину, кожа которой могла бы стать материалом для шедевра, если бы переплетчик не влюбился в нее — живую…Самая удивительная книга XXI столетия в первом издании была переплетена в натуральную кожу, а в ее обложку был вставлен крошечный «автограф» — образец кожи самого Эрика Делайе. Выход сюжета за пределы книжных страниц — интересный ход, но книга стала бестселлером в первую очередь благодаря блестящему исполнению — великолепно рассказанной истории, изящному тексту, ярким героям.