Жития убиенных художников - [14]
Человеку, утверждавшему, что говорение — зло, Диоген Синопский возразил: «Не всякое говорение, а лишь пустое». Был ли Лучанский пустомелей и брехуном? Я думаю, что он был демагогом — в древнейшем (уважительном), и в новейшем (уничижительном) смысле. Он вещал и он болтал, но большей частью он верил в то, что говорил. Он любил слова, и он хотел смысла.
Борис обожал говорить, но рисовал он мало. А когда рисовал, то на совсем маленьких листочках, обрывках ватмана, тетрадных страничках, кусочках картона. Никаких крупных или средних форматов — только крошечные штучки. Он предпочитал простой карандаш, реже работал тушью, акварелью, шариковой ручкой, цветными карандашами, темперой. Это были миниатюры — тень великой западно-восточ-ной традиции, сгинувшей или зачахнувшей, вытесненной печатной графикой, иллюстрацией и карикатурой. Искусство Лучанского лежало вне всего этого. Будет ошибкой причислить его к графикам, рисовальщикам, гравёрам — он был миниатюрист, работал в согласии с поэтическим духом слова. Что это значит? А вот: изображение, извлечённое из притчи или поэмы, лепет воображения, в котором, однако, слышится властный голос Логоса. Слово, превращённое в пластический знак, в символ.
Искусство миниатюры требует от зрителя особого к себе отношения, а именно любовного, пристального разглядывания — с памятью о книге, о поэзии. Вещи Бориса были напрямую связаны с его чтением — прежде всего с Песнью Песней, со стихами Хайяма, с японскими и китайскими средневековыми авторами, которых он читал в переводах и томики которых нежно обклеивал шёлком и деревянными дощечками. Лучанский не был эрудитом или знатоком каких-нибудь авторов, нет. Ему требовалось надышаться ароматом литературных памятников, опьяниться ими — и тогда он мог рисовать. Главными возбудителями были две фигуры — Меджнун и Лейла, а ещё Суламифь и Соломон. Его волновала та благовонная смесь нищеты и роскоши, которая исходила от этих образов. Меджнуна и Лейлу он чтил как своих персональных божков, находил в их истории свою собственную любовную драму. Он неустанно изображал их на своих крошечных картинках.
Лучанский использовал эти образы примерно так, как до него — Велимир Хлебников. У хлебниковской поэмы «Медлум и Лейли» нет явного прототипа, будетлянин мало опирался на поэтов, писавших на этот сюжет до него. Хлебников воспринял Меджнуна и Лейлу как могучие смыслообразы, как воображаемые иконы, перед которыми он предстоял и которые заново написал — вне канонов. Медлум и Лейли у него — императивы космической, вселенской любви. В конце поэмы Хлебников превратил любовников в созвездия, сияющие на западно-восточном небосводе, источающие божественный свет, чтобы все любящие могли по ним ориентироваться и странствовать.
И Борис Лучанский подлинно пытался руководствоваться этими созвездиями. Любовь он ставил на одну — высочайшую — ступень с творчеством, а в похоти был жаден и ненасытен, как сатир или Пабло Пикассо. Он мог бы повторить за автором «Авиньонских девиц»: «Для меня существует лишь два типа женщин — богини и тряпки для вытирания ног». Но в отличие от Пикассо, пенис служил Борису-любовнику надёжнее, чем рука — Лучанскому-художнику. На дырявой кошме он сношался куда чаще, чем рисовал за ломберным столиком.
Борис принадлежал к тем артистам, которых можно понять только сидя с ними в их комнате, слушая их, выпивая с ними, погружаясь в их атмосферу. Конечно, любой художник открывается до конца именно так — в своей интимной обстановке. Счастливы те, кто созерцал холсты Люсьена Фрейда и Фрэнсиса Бэкона в их мастерских! Но Ричард Принс или Кристофер Вул создают свои произведения для музейных стен и коллекционерских особняков, а миниатюры Бориса Лучанского предназначались только для меня! И ещё для пяти-шести человек! И рассматривать их нужно на ломберном столике под голой лампочкой в Малой Станице! Вы понимаете? Есть творения, которые тускнеют и линяют, когда создателя больше нет рядом. Работы Бориса страшно разочаровали меня, когда я увидел их спустя много лет в иерусалимской галерейке. Здесь не было лампочки на шнуре, кошмы на полу, черешни за окном. Здесь не было его папиросного дыма. И очарование исчезло, рассеялось, мне стало грустно, досадно.
Но там, в Малой Станице, в этой полутёмной комнате, он был для меня значительнее Клее, который тоже ведь предпочитал скромные размеры. Он казался грандиознее Сикейроса, Сурикова, Поллока, Понтормо! Он не уступал по силе фаюмским портретам, стоял наравне с Джотто, потому что он умел меня околдовать, опьянить, одурачить, и в его присутствии весь мир сужался до этой кошмы в бараке, где-то в Советском Казахстане времён брежневского застоя, в СССР за железным занавесом. Колдун Борис Лучанский мерещился мне там архетипом Вечного Художника — непризнанный, загнанный, вдохновенный, в бедных, но элегантных одеждах, держащий между пальцами дымящийся зловонный окурок и говорящий о самом-самом важном — самыми острыми, пронизывающими словами… А разве не всё искусство действует именно так — как дурман, как облако, как затмение, как потеря самоконтроля перед лицом сверкнувшей, как молния, божественности?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.
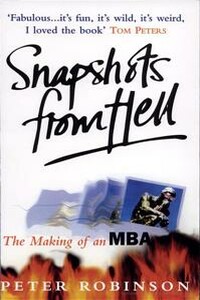
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

С чего начинается день у друзей, сильно подгулявших вчера? Правильно, с поиска денег. И они найдены – 33 тысячи долларов в свертке прямо на земле. Лихорадочные попытки приобщиться к `сладкой жизни`, реализовать самые безумные желания и мечты заканчиваются... таинственной пропажей вожделенных средств. Друзьям остается решить два вопроса. Первый – простой: а были деньги – то? И второй – а в них ли счастье?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
