Жирная, грязная и продажная - [5]
Дочитав до этого места, критики возрадуются, что поймали меня на «искажении исторической правды», ибо я забыл помянуть керосин… Нет, я не забыл о керосине! Но до начала семидесятых годов прошлого столетия Россия бочек под керосин никогда не производила. Страна уже имела свой керосин, но бочки для керосина были чужими – американские с маркировкою по-английски: «Стандард ойл компани». Джон Рокфеллер начиная с 1863 года буквально затопил святую Русь своим керосином, используя под разлив бочки из добротного американского дуба. Каждая его бочка вмещала восемь пудов и была очень удобна при транспортировке, ибо ее легко перекатывал один человек. Естественно, что, поставляя керосин в Россию, Рокфеллер как настоящий джентльмен не требовал от русских, чтобы они вернули ему бочки обратно за океан, – это было бы и глупо и разорительно.
Так продолжалось до октября 1876 года, когда на рынки Санкт-Петербурга поступил бакинский керосин, но привычная маркировка «Стандард ойл» была забита на бочках свежей надписью: «Роберт Нобель». Это и понятно: пустых бочек от Рокфеллера скопилось очень много, и они, хорошо проклеенные, были заполнены отечественным керосином. Производство русского керосина увеличивалось столь быстро, что вскоре Нобелям потребовались целые заводы по выделке бочек. Конечно, сразу возникла острая нужда в дубовом лесе – где его брать? Российский дуб был дорог, а срубленный в лесах Ленкорани оказался хрупким в работе, так что одно время для бондарей завозили из Персии чинару. Пробовали мастерить бочки из дешевой осины, но ее смолы не впитывали клей, ель имела много сучков, отчего бочки протекали, липа требовала долгой просушки… Наконец, на бондарном заводе в Перми провели опыты с осиной, которой так богаты леса, и осина оказалась прекрасным материалом для выделки бочек под хранение нефтепродуктов…
Догадываюсь, что именно тут критики скажут, что Валентин Пикуль разводит эмоции на пустом месте, что через дырку в бочке читателю не увидать социальных перемен в русском обществе, что автор не отобразил накала классовой борьбы, без которой невозможно поступательное движение к коммунизму.
Между тем, осмелюсь заметить, я, автор, имею право на выражение личных эмоций, возникающих даже в вопросах о производстве керосиновых бочек. Как говорят наши восточные соседи, «что увидит молодая женщина в зеркале, то старуха способна разглядеть даже в обычном кирпиче…».
Обычно критики упрекают меня в том, что история – в моем изложении – выглядит как увлекательный роман. Кажется, им хотелось бы, чтобы Валентин Пикуль писал невыразительно, лишь констатируя те факты, которые доступно изложены в школьных учебниках. Некоторые из критиков, еще не потерявшие человеческого облика, говорят мне архичестно:
– Слушай, когда ты перестанешь писать, чтобы мы больше не мучились? Ведь мы не успеваем разлаять один твой роман, как у тебя готов другой. В наше время, чтобы тебя заметили и оценили, писать надо, как можно меньше. А лучше же всего – вообще не писать, а только высказываться по насущным вопросам о путях развития нашей бесподобной литературы.
Кстати, за сорок лет служения в словесности у меня накопился немалый опыт борьбы с критикой, и оружием в этой борьбе служит… молчание. Еще Александр Блок мудрейше советовал писателям вообще не замечать критиков, способных сегодня говорить одно, а завтра порицать сказанное ими вчера, и Блок предупреждал пищущих никогда не вступать в полемику с критиками, ибо автор прав… он всегда прав!
Даже не читая моих книг, а лишь повторяя один другого, критики в один голос заверяют читателя, что за движением исторических событий я наблюдаю через «замочную скважину». Это так же нелепо и глупо, как и то, что один из критиков назвал меня «советским Дюма». Однако, желая подтвердить мнение своих Зоилов, а этом романе-очерке я, действительно, приглашаю читателя заглянуть в прошлое через скважину…
Только не замочную, а – нефтяную!
Завершая прелюдию к роману, заодно уж припомню, что было сказано в Коране: «Неужели же вы дивитесь этому рассказу и все еще смеетесь, а не плачете?..»
Перейдем к делу, ибо наша бочка требует заполнения. Хотя бы тем поносом трусости, которым давно страдает наша всемогущая и прогрессивная критика.
2. Сентиментальное путешествие
Весной 1873 года – давненько, читатель! – на пароходе «Великий князь Константин» был объявлен всеобщий аврал.
– Ходи все наверх… быстро! – орали боцманаў.
Аврал был по всем правилам флотской науки – с матюгами, с зуботычинами и с обещанием хорошей выпивки в конце, если пароход станет «сверкать, как новый пятак».
– Да уж и без того сверкаем, – рассуждали матросы. – Не знаем, где как, а на русском флоте завсегда порядок…
Аврал застал команду на «девяти футах» Астраханского рейда, но в городе встревожились и жители. По улицам вдруг промаршировали разряженные, как павлины, лакеи императорского двора, за ними, покуривая сигары, шагали важные господа – повара, а юные поварята, замыкая процессию, били в медные тазы, словно в боевые литавры, возвещая победу.
Астраханцы на всякий случай пугливо крестились:
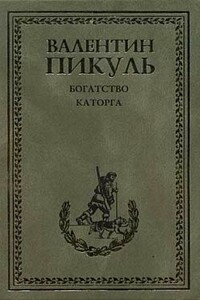
Роман «Каторга» остается злободневным и сейчас, ибо и в наши дни не утихают разговоры об островах Курильской гряды.
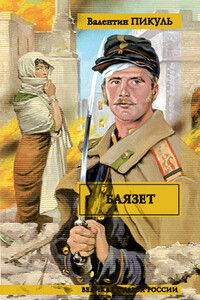
«Баязет» – одно из масштабнейших произведений отечественной исторической прозы. Книга, являющая собой своеобразную «художественную хронику» драматичного и славного эпизода истории русско-турецкой войны 1877—1878 гг. – осады крепости Баязет.Книга положена в основу сериала, недавно триумфально прошедшего по телевидению. Однако даже самая лучшая экранизация все-таки не в силах передать талант и глубину оригинала – романа В. Пикуля…
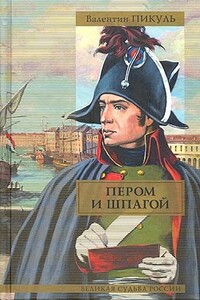
Из истории секретной дипломатии в период той войны, которая получила название войны Семилетней; о подвигах и славе российских войск, дошедших в битвах до Берлина, столицы курфюршества Бранденбургского; а также достоверная повесть о днях и делах знатного шевалье де Еона, который 48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной, и в мундире и в кружевах сумел прославить себя, одинаково доблестно владея пером и шпагой…
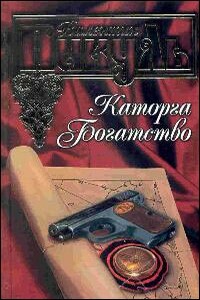
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
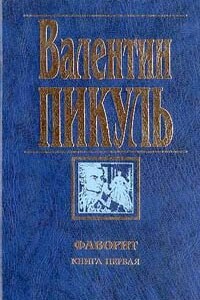
роман «Фаворит» — многоплановое произведение, в котором поднят огромный пласт исторической действительности, дано широкое полотно жизни России второй половины XVIII века. Автор изображает эпоху через призму действий главного героя — светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, фаворита Екатерины II; человека сложного, во многом противоречивого, но, безусловно, талантливого и умного, решительно вторгавшегося в государственные дела и видевшего свой долг в служении России.
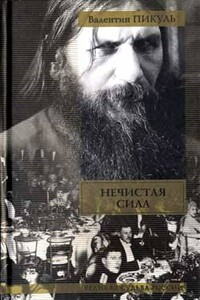
«Нечистая сила». Книга, которую сам Валентин Пикуль назвал «главной удачей в своей литературной биографии».Повесть о жизни и гибели одной из неоднозначнейших фигур российской истории – Григория Распутина – перерастает под пером Пикуля в масштабное и увлекательное повествование о самом парадоксальном, наверное, для нашей страны периоде – кратком перерыве между Февральской и Октябрьской революциями…
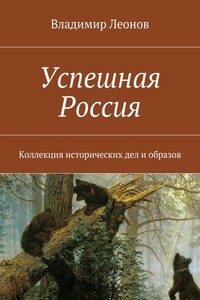
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».
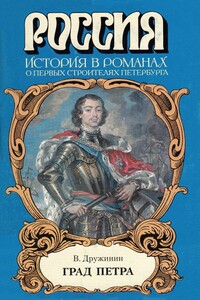
«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.
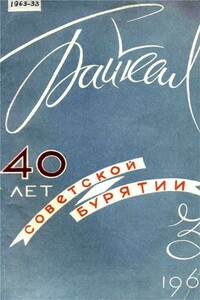
Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
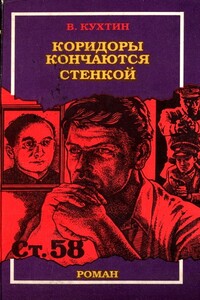
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.
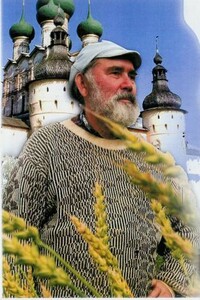
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
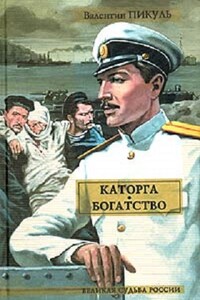
В том включены романы Валентина Пикуля «Каторга» и «Богатство», освещающие малоизвестные страницы истории русско-японской войны 1904–1905 годов. Роман «Каторга» остается злободневным и сейчас, ибо и в наши дни не утихают разговоры об островах Курильской гряды. В романе «Богатство» открываются новые страницы отечественной истории, отражены колоритные личности и уникальная природа Камчатки.
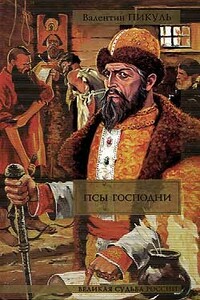
Россия, истерзанная безумным Иваном Грозным, измученная опричниной Испания, выжженная кострами инквизиции – опоры трона Филиппа II Страшное время религиозной истерии и болезненного распутства, бесконечных войн, казней.

Павел Кольцов, в прошлом офицер, а ныне красный разведчик, становится адъютантом командующего белой Добровольческой армией. Совершив ряд подвигов, в конце концов Павел вынужден разоблачить себя, чтобы остановить поезд со смертельным грузом…Кольцова ожидает расстрел. Заключенный в камеру смертников герой проходит семь кругов ада. Но в результате хитроумно проведенной операции бесстрашный разведчик оказывается на свободе. Он прощается, как ему кажется, навсегда со своей любовью Татьяной и продолжает подпольную работу.
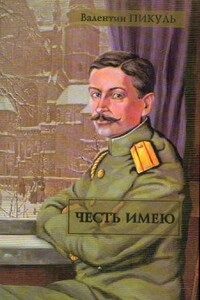
«Честь имею». Один из самых известных исторических романов В.Пикуля. Вот уже несколько десятилетий читателя буквально завораживают приключения офицера Российского Генерального штаба, ставшего профессиональным разведчиком и свидетелем политических и дипломатических интриг, которые привели к Первой мировой войне.