Желтый. История цвета - [8]
Прежде всего мы узнаём, что в мире металлов существует своя иерархия, и золото занимает в ней верхнюю ступень: это совершенный металл, над которым не властно время; он символизирует могущество, мудрость, удачу и процветание. И самое убедительное свидетельство такого отношения к золоту – миф о золотом веке. История мира делится на четыре периода: золотой век, серебряный век, медный век, железный век. Разумеется, эти названия не имеют ничего общего с терминами, которыми ученые сегодня обозначают периоды протоистории – медный век, бронзовый век, железный век и так далее. Впервые этот миф о четырех веках человечества встречается в VII веке до нашей эры в поэме Гесиода «Труды и дни». С начала мира, объясняет Гесиод, на земле сменили друг друга четыре породы людей; эти породы обозначались по названию металла: золотая, серебряная, медная и железная. Люди первой, золотой породы, жили в счастье и согласии; а вот люди новейшей, железной породы, современники Гесиода, забыли, что такое справедливость, жалость и мораль[16].
После Гесиода многие авторы вышивали свои узоры по этой первоначальной канве. Заменив «породы» на «века», они создали крылатое выражение, позволявшее восхвалять прошлое, особенно далекое прошлое, и противопоставлять его дню сегодняшнему, полному пороков и бедствий. Больше всего об этом сказано у латинских поэтов (тем самым давших историкам много важный деталей) – Катулла, Вергилия, Тибулла, Горация и в особенности Овидия[17]. Золотой век – время блаженства: люди общаются с богами, сердца их чисты и не знают забот, а тела не знают ни боли, ни усталости, ни даже старости; повсюду царят мир, любовь и справедливость; весна никогда не кончается, а войн не бывает; природа благосклонна к людям, на колючих кустах сами собой вызревают чудесные плоды, шерсть без вмешательства человека прямо на теле овец окрашивается в разнообразные, приятные цвета. Серебряный век начинается тогда, когда верховного бога Хроноса на троне сменяет его сын Зевс; в этот период люди разгневали Зевса, и он сделал их смертными; для удовлетворения насущных потребностей им приходится трудиться, соразмеряя ритм жизни с каждым временем года, терпеть жару, холод и голод. Затем наступает медный век: сердца людей ожесточились, у них появилась склонность к насилию, они начали воевать друг с другом, им пришлось бороться со всевозможными чудовищами и опасностями. Наконец, наступает железный век, страшное время, когда войны не прекращаются, пороки властвуют безраздельно и удел человеческий – страх, страдания и смерть[18].
Некий неизвестный автор XV века подхватывает древний миф о четырех веках человечества и, не поняв его смысл, толкует его в духе своего времени, когда между цветами и металлами часто усматривали ассоциации: в его трактовке первый век – желтый, второй – белый, третий – красный, а четвертый – черный[19]. То же самое происходит и в геральдике, которая придала цвету главную эмблематическую функцию и в которой желтый век – время счастья, а черный – время несчастья. Ничего похожего не встречается у античных авторов, и даже если некоторые римские поэты, в частности Овидий,[20] говоря о золотом веке, и употребляют словосочетание aetas aurea, прилагательное aurea здесь указывает на металл в его символическом значении, а не на цвет.
Миф о четырех веках рассматривает золото в позитивном плане. В других мифах и преданиях отношение к золоту не всегда такое восторженное. Например, в истории о золотых яблоках из сада Гесперид, которые должен был добыть Геракл, – это стало его одиннадцатым подвигом. После того как герой в приступе безумия убивает свою жену и троих сыновей, дельфийский оракул велит ему, во искупление вины, во всем повиноваться его родственнику Эврисфею, царю Аргоса. Эврисфей, который завидует Гераклу и ненавидит его, назначает ему двенадцать непосильных для человека испытаний. Шесть из них следует выдержать на Пелопоннесе, другие шесть – во всем остальном мире. Одиннадцатое задание – добыть чудесные плоды из сада, растущего у подножия горы Атлас, на западной окраине обитаемого мира. Этот сад, охраняемый ужасным стоглавым драконом, принадлежит трем нимфам Запада, Гесперидам, дочерям Атланта и Ночи. Их красота необычайна, а голос сладостен. Сами яблоки принадлежат богине Гере, которая люто ненавидит Геракла и без конца преследует его. Отыскать сад нелегко, а добыть яблоки – еще труднее. И все же Гераклу после множества приключений удается совершить этот подвиг с помощью его племянника Иолая и великана Атланта. Наконец он вручает яблоки Эврисфею, а тот не знает, что с ними делать. Несколько растерянный, Геракл преподносит их в дар Афине, в благодарность за помощь, какую она ему не раз оказывала. Но осторожная Афина, не желая навлечь на себя гнев Геры, возвращает яблоки в сад Гесперид, на прежнее место, которое они не должны были покидать. Рассказ об одиннадцатом подвиге Геракла, в котором немало знаменитых эпизодов (борьба с чудовищным Антеем, затем с пигмеями, освобождение Прометея, прикованного к скале в горах Кавказа, поддерживание небесного свода на время отсутствия Атланта), дошел до нас в нескольких версиях. Между ними есть существенные различия, но в одном они полностью совпадают: в каждой сделан упор на грозные опасности, с которыми сталкивается герой, и на полную бесполезность его миссии: золотые яблоки возвращаются туда, где были изначально. Урок очевиден: добывание некоего драгоценного предмета сопряжено с опасностью; желание оставить добычу себе неминуемо приводит к катастрофе; мудрость велит вернуть ее законному владельцу. Еще древнеримские авторы задавались вопросом: что собой представляют эти «золотые яблоки»? Какие именно фрукты имеются в виду? И сколько их было? Были ли это действительно яблоки, или айва, или же груши, а может, цедраты? Эрудиты XIX столетия предположили, что это были апельсины, или даже манго, фрукты, которых тогда не знали в Европе и которые поразили первых греков, увидевших их в Азии. Но все эти гипотезы весьма шатки. Удовольствуемся словом «яблоки», которым в древних языках обозначали большинство плодов с сочной мякотью, и пусть это будут желтые яблоки, чтобы легче было установить метафорическую связь между золотом и плодом. Ведь золотое яблоко не может быть никакого другого цвета, кроме желтого, и поскольку нимф три, добыча Геракла должна была составлять минимум три яблока. Были ли все они одного цвета? Возможно, имена нимф помогут нам понять, каких оттенков желтого были эти яблоки: блестящий (Эгла), красноватый (Эрифия) и «цвета зари» (Гесперия)
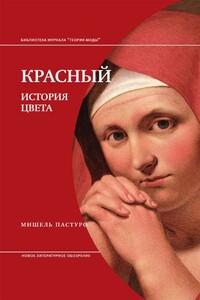
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Данная монография является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро – истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века, начатого им с исследования отношений европейцев с синим цветом. На этот раз в центре внимания Пастуро один из самых загадочных и противоречивых цветов с весьма непростой судьбой – черный. Автор предпринимает настоящее детективное расследование приключений, а нередко и злоключений черного цвета в западноевропейской культуре. Цвет первозданной тьмы, Черной смерти и Черного рыцаря, в Средние века он перекочевал на одеяния монахов, вскоре стал доминировать в протестантском гардеробе, превратился в излюбленный цвет юристов и коммерсантов, в эпоху романтизма оказался неотъемлемым признаком меланхолических покровов, а позднее маркером элегантности и шика и одновременно непременным атрибутом повседневной жизни горожанина.
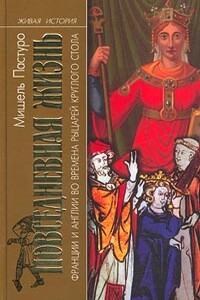
Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.
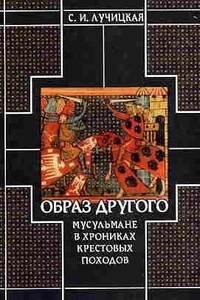
Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.
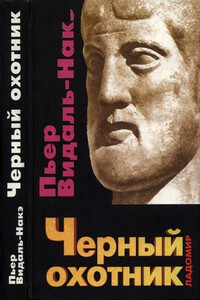
Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.
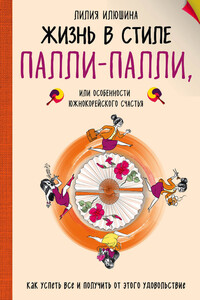
«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.
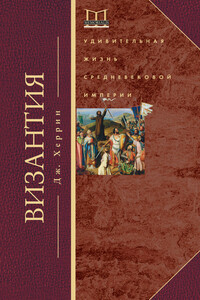
Уникальная книга профессора лондонского Королевского колледжа Джудит Херрин посвящена тысячелетней истории Восточной Римской империи – от основания Константинополя до его захвата турками-османами в 1453 году. Авторитетный исследователь предлагает новый взгляд на противостояние Византийской империи и Западного мира, раскол христианской церкви и причины падения империи. Яркими красками автор рисует портреты императоров и императриц, военных узурпаторов и духовных лидеров, талантливых ученых и знаменитых куртизанок.

В книге исследуются дорожные обычаи и обряды, поверья и обереги, связанные с мифологическими представлениями русских и других народов России, особенности перемещений по дорогам России XVIII – начала XX в. Привлекаются малоизвестные этнографические, фольклорные, исторические, литературно-публицистические и мемуарные источники, которые рассмотрены в историко-бытовом и культурно-антропологическом аспектах.Книга адресована специалистам и студентам гуманитарных факультетов высших учебных заведений и всем, кто интересуется историей повседневности и традиционной культурой народов России.

Авторский коллектив – сотрудники Института всеобщей истории РАН, Института Африки РАН и преподаватели российских вузов (ИСАА МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ) – в доступной и лаконичной форме изложил основные проблемы и сюжеты истории Тропической и Южной Африки с XV в. по настоящее время. Среди них: развитие африканских цивилизаций, создание и распад колониальной системы, становление колониального общества, формирование антиколониализма и идеологии африканского национализма, события, проблемы и вызовы второй половины XX – начала XXI в.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.