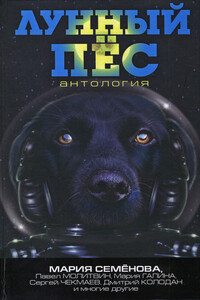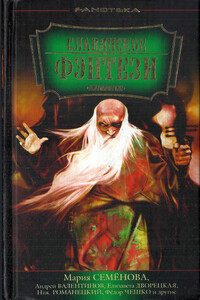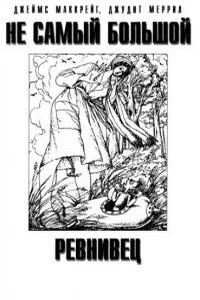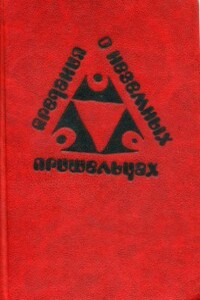Все будет хорошо. Подсознание вытянет, темная память сохраняет все прошлое и подскажет, как быть, новому разуму или — душе?
«А ты?» — просто спросила Жанна.
Лариса стиснула зубы. Мельком удивилась, что взяла чужое тело под контроль. И задумалась, что хочет доказать своим поступком себе… А рука в латной перчатке уже подана, и под босые ноги легла мостовая… деревянные занозистые ступеньки (щека дернулась от боли). И толстый монах с помоста зачитывает приговор.
Ну когда же они?!..
Мгновенная и непривычная пустота. Возможность почти спокойно додумать (толпа молчит, лишь на ком-то из стражей звякает плохо пригнанный доспех). Возможность раз и навсегда выбрать из двух путей: материального благополучия и престижа — и чего-то, презираемого общественным подсознанием, хотя и преподанного, как идеал. Того, что в городе, забранном в решетки и железные двери, кажется эфемерным, глупым, годящимся только для романтичных подростков — если такие еще где-то есть. Того, что рвется из бардовских песен и кажется истинным и нужным лишь до тех пор, пока эти песни звучат.
Палач возится над факелом. Нет у него бензина, бедный… Лариса скривила рот. Цинизм — оборотная медаль не романтики, а страха. А ведь в будущем совсем такой же мир — несмотря на компы и мобильники. И эти люди, которые молчат, будут молчать и там, не разбирая разницы между государством и родиной. А Жанна — лишь забытое знамя, белая орифламма с тремя золотыми лилиями. Не сохранилось ни одного прижизненного ее портрета. Некоторые историки всерьез спорят, а существовала ли Орлеанская Дева вообще. Может, ну их в пень, испортить им легенду, закричав не: «Крест! Дайте мне крест!», а «Зеркало! Дайте зеркало!!» И увидеть. Какая она, Жанна. Есть ли я. «…и все на счастье: даже небо это рюмкой об пол…»[2] Лица у священников на помосте вытянулись. Они завопили, и грубая рука в кожаной перчатке заткнула Ларисе рот. Так просто было принять за заклинание обыкновенный русский язык.