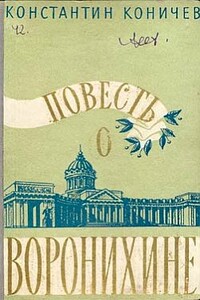Земляк Ломоносова - [50]
Один из поморов покосился на Якова и, толкнув его локтем в бок, проворчал:
– Ты, дядя Яков, разом, не лишнюю ли выпил? Это тебе не в Денисовке грубиянить, может этот щеголь Федоту шурином или свояком приходится.
– А что? Я разве не правду сказал? Щеголя сразу видно, по мне хоть сват, хоть брат, – не унимался Яков и, подойдя к бюсту Зубова, пощупал его холодный мраморный подбородок, погладил узкий лоб, потрогал полированные складки драпировки и с видом понимающего толк в скульптуре сказал:
– Я самый старый из вас, косторезов, стало быть я маракую в художествах. Кто сей щеголь? Ни мне, ни вам неведомо. Один Федот знает, кого он из камня выдолбил. Не то это принц, не то царевич, не то барчук какой. Одно вижу, когда гляжу я в лицо ему, – нехорошего человека изобразил Федот. Смотрите, как он голову-то задрал, будто нам сказать хочет: «берегись назём, мёд везём!» Слов нет, красиво приосанился, а ума-то в такой натуре незаметно. Ломоносов – тот орел, а этот – трясогузка.
Мужики усмехнулись. Федот одобряюще заметил:
– Правильны суждения твои, правильны.
– С мужика чего спрашивать, говорю на глазок да на ощупь, не по науке, – скромно ответил Яков и спросил: – Дозволь знать, Федот Иванович, много ли ты на своем веку таких идолов наделал и куда их рассовал?..
– Много, брат, очень много, почитай более двухсот, а находятся они все во дворцах, в усадьбах князей и графов, в Эрмитаже, есть в Троицком соборе и есть даже за границей.
– Далеко, брат, шагнул! А из этого куска кого вырубать станешь? Сделал бы самого себя на память, – посоветовал Яков, ощупывая глыбу мрамора, по цвету схожую с сероватым весенним снегом.
– Нет, – сказал Шубин, – это для особой надобности. Держу про себя такую думку: случится повидать полководца Суворова, обязательно его бюст сработаю. Руки уставать начали от делания бюстов с персон, к которым не лежит мое сердце. Ну, я их по-своему, понятно, и делаю. Правда моя им не по вкусу. Недруги шипят по-за углам, хают меня: «он, дескать, грубой, портретной мастер и не место ему среди академиков». Все эти щеголи, как их Яков назвал, любят ложь, ненавидят правду. Делал я бюст Шереметева Петра. Не взлюбился ему мой труд, а я разве повинен в том, что сама барская жизнь отвратным его сотворила? – Шубин на минуту умолк и как бы про себя невесело добавил: – Туго мне от этих господ щеголей иногда бывает, но не сдамся, до самой смерти не сдамся! В угоду им не скривлю душой… Так-то.
В мастерской поморы пробыли довольно долго, а потом, не задерживаясь, на бойких лошадях, в розвальнях, вместе с Федотом поехали на кладбище. Оставив лошадей около ограды, они прошли по протоптанной дорожке к могиле Михайла Ломоносова. По сторонам из глубокого снега торчали чугунные кресты и мраморные надгробия. Стаи галок жались под церковной кровлей. Откуда-то с кладбищенской окраины доносился плач и унылый голос попа и певчих, отпевавших покойника.
– Большого ума был человек, – тихо сказал Шубин, обращаясь к окружавшим его землякам, – и через тысячу лет русский народ будет вспоминать его добрым словом. Есть на нашей земле справедливый человек – Радищев. Власти наши гноят его в сибирских острогах. Сей муж написал о Михаиле Васильевиче такие слова: «Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего принесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прилетит во устах народных за необозримый горизонт столетий… Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского… Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен»… – Шубин умолк и, вытирая платком глаза, добавил: – Вечная тебе память, наш незабвенный земляк и друг!
Поморы поклонились мраморному памятнику и высыпали из кармана хлебные крошки на могилу.
– Галки склюют, помянут…
На обратном пути растроганный нахлынувшими воспоминаниями Шубин рассказывал землякам о своих встречах с Ломоносовым.
– И ничего не было в жизни ужасней, чем замечать радость на лицах недругов Ломоносова по случаю его кончины…
Шубин обвел усталым взглядом своих односельчан и грустно проговорил:
– Надеюсь, вы не помянете меня лихом и при случае зайдете навестить, как вот сегодня Михайлу Васильевича. Годы-то идут, смерть – она, братцы, недосугов не знает, придет и палкой ее не отгонишь…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Умерла Екатерина, и не знали даже близкие верноподданные, кто будет наследником – сын ли Павел, которого царица недолюбливала, или внук Александр. Ходили слухи еще при жизни царицы о том, что она написала завещание в пользу Александра. Бездыханное тело ее еще не успело остынуть, а Павел уже рылся в бумагах и сжигал в камине всё, что попадало ему под руку. Никто из придворных не осмеливался остановить Павла. Лишь Безбородко, у которого слезы по поводу кончины царицы успели высохнуть, увидев встревоженного Павла за сжиганием бумаг и оставшись с ним наедине, показал, не выпуская из своих рук, пакет за пятью печатями с надписью:
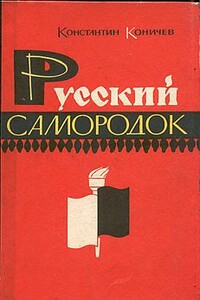
Автор этой книги известен читателям по ранее вышедшим повестям о деятелях русского искусства – о скульпторе Федоте Шубине, архитекторе Воронихине и художнике-баталисте Верещагине. Новая книга Константина Коничева «Русский самородок» повествует о жизни и деятельности замечательного русского книгоиздателя Ивана Дмитриевича Сытина. Повесть о нем – не обычное жизнеописание, а произведение в известной степени художественное, с допущением авторского домысла, вытекающего из фактов, имевших место в жизни персонажей повествования, из исторической обстановки.
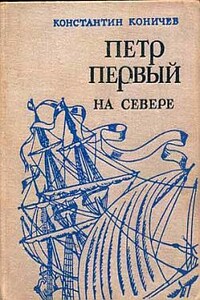
Подзаголовок этой книги гласит: «Повествование о Петре Первом, о делах его и сподвижниках на Севере, по документам и преданиям написано».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
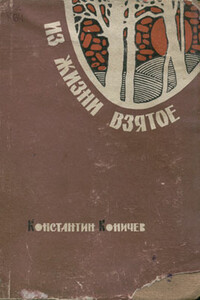
Имя Константина Ивановича Коничева хорошо известно читателям. Они знакомы с его книгами «Деревенская повесть» и «К северу от Вологды», историко-биографическими повестями о судьбах выдающихся русских людей, связанных с Севером, – «Повесть о Федоте Шубине», «Повесть о Верещагине», «Повесть о Воронихине», сборником очерков «Люди больших дел» и другими произведениями.В этом году литературная общественность отметила шестидесятилетний юбилей К. И. Коничева. Но он по-прежнему полон творческих сил и замыслов. Юбилейное издание «Из жизни взятое» включает в себя новую повесть К.
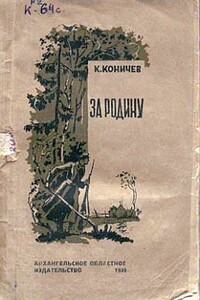
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
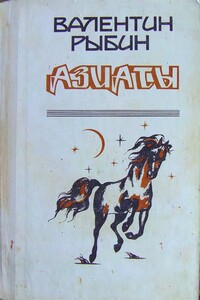
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.