Земля под копытами - [6]
— Душегубы проклятущие! Чтоб вы так лихоманки напились, как кровь нашу пьете! Чтоб вам сдыхать на дню по сто раз, чтоб ваши кости выбросило с того света! Чтоб и детей ваших горе разорвало, как вы меня сейчас на куски рвете! Пустите меня к моим сыночкам!
— Не трать, молодица, сил, опускайся на дно, — прогудело из глубины погреба. Она узнала голос деда Лавруни.
— А вы чего здесь, дед? — обрадовалась Галя, что не одна.
— Сказано-от в святом писании, дочка: неправедный да творит неправду, но гряду скоро, и расплата моя со мной…
— Добре, дед, что вы хоть булок наелись…
У Лавруни слова галушкой так в горле и встали; молча завозился в углу, чиркнул кресалом, осыпав тьму пригоршней искр. Табачный дым, пересиливший дух прелой соломы, был приятен Гале, он напоминал о Даниле. Язык у нее без костей: вишь, и про булки не удержалась. В августе сорок первого, когда родила Поночивна своего Телесика, пришел Лавруня по-соседски проведать ее: «Ничего, Галька, вскорости жди своего Данилу домой. Немцы уже в Листвин вступили, магазины там открылись, полки булками завалены…»
— Не шпыняй уж меня хоть ты, дочка…
И Поночивна прикусила язычок. Точно такой голос был у Лавруни, когда его Соловей упал и больше уж не встал. На мостике через Пшеничку дело было. До войны еще, в котором году, не помнит. Лавруня ходил в последних единоличниках в Микуличах. Как ни уговаривали, как ни давили на него разные уполномоченные, которым Лавруня портил картину стопроцентного энтузиазма, не хотел он идти в колхоз, единолично копался в овраге на своей делянке-латке. Коня ему оставили, Соловьем прозывался, тощеребрый, ну точно плетень у худой хаты. Прижмут Лавруню налогами, он детей на воз посадит — и в столицу: «Еду к Постышеву». Возвращается под вечер, насосется джусу и на все село горланит:
Поспешала Галя в свое звено, а Лавруня с возом навстречу. Только втащился его Соловей на мостик, вдруг — бах, и ноги протянул. Лавруня соскочил с воза, бежит к коню и глазам своим не верит: «Ой, конь ты мой конь, товарищ ты мой верный! Я ль тебя не холил, я ли не пестовал?! Сам не доем, не допью, а тебе последний кусок отдам. Не сироти меня, конь мой, запой, Соловушка…»
— Вот, дед, залили и вам сала за шкуру немцы, — вздохнула Поночивна, устраиваясь на ступеньках у самых дверей: только откроют, она сразу и кинется к своим деткам, ни один полицай не остановит. Хоть бы баба Марийка Ивася отходила! Андрея и Сашка накормит, не даст пропасть.
— Думалось мне, Галька, что уж теперь правду скрывать, земельки немцы дадут, и все, что там для обработки нужно… Хозяйнуй, скажут, Лавруня, на здоровье. У них инвентарь справный, я когда-то на Херсонщине у одного немчика служил, видел… Притопали они в село, подстерег я офицера ихнего, на колени упал, поклонился низенько; я обхождение, чай, знаю, старого режима. А он косо так на меня глянул и спрашивает через переводчика: «Чего дед хочет?» — «Хочу спросить пана, когда будут землицу давать?» А немец на это: «Скоро всех накормим». Засмеялся и поехал. Холоду он мне в душу тем смехом нагнал. Как установилась новая власть, я мигом в Листвин. Ходил по кабинетам районной управы и про землицу выведывал. Да вижу — не выходит ничего, чисто тебе волки сидят, только в немецких шкурах. Пробился до самого коменданта и спрашиваю: «Долго ли еще, пан комендант, нам землицы ждать? При большевиках ждал-ждал, а теперь уж и зубы не те, чтоб черствые жданки жевать». Переводчик перевел. Комендант ухмыльнулся, записку написал и говорит через толмача: «Отдай, дед, эту бумагу старосте, он все исполнит». Поклонился я, как положено, спасибо, говорю, всей немецкой власти за велику ласку — и бегом домой. Такая радость, такая радость на меня снизошла, не иду — лечу: нарежут землицы, да жирненькой, ведь я вроде бы пострадал от Советской власти, будет к чему руки приложить, а там жизнь покажет… Захожу в сборню, записку Шуляку отдаю, а тот — писарю: «На, читай». По-немецки у нас только писарь знает. Писарь прочитал и говорит: «Тут написано, пан староста, чтоб дать предъявителю сей бумаги прочухана и запереть в подвал». Шуляку только бы зацепиться: как вскочит и по уху меня — раз, другой. Упал я как подкошенный, а меня уж в подвал волокут… Так что здесь не впервой и словно бы дома. Обживайся и ты, Галька.
Поночивна знала уже о дедовой беде, слушать слушала его, да о своем думала: вспоминала Маркияна Гута, который оставался в Микуличах, аж пока немцы не вошли. В военном ходил, но без знаков различия. Немцы уже по селу из пушек стреляли, а он на колхозном подворье людей собирал: «Все равно наши вернутся. Может, нас и не будет, кто-то другой придет, но Советская власть будет все равно». А через неделю стучится в окно, полицаи уже по селу шныряли: «Галя, где радио, что Данило из Москвы привез?» А Данилу перед войной в Москву на выставку посылали и за хорошую работу на тракторе радио дали. «На чердаке, соломой притрусила». — «Так дай, наше испортилось». Достала Поночивна радио с чердака, он поблагодарил и говорит: «Домой я не могу заглянуть. А увидишь мою Надийку — передай, что жив и воюю». И пошел себе огородами к Днепру. С тех пор его в Микуличах не видели. Но полицаи, когда у них провода телефонные порвутся или еще какой изъян для немецкой власти случится, все его поминали: «Тут без Маркияна не обошлось, он за Днепром в лозняке». Гутиху с ребенком таскали — то допрашивают в сборне, то в подвал бросят, но только постращают и выпустят. А перед Спасом забегает к ней Гутиха с дитем на руках: «Галочка, пусти переночевать. Говорят, в Листвин карательный отряд прибыл. Активистов берут по списку, и я будто в том списке». Постелила им Поночивна на чердаке: вдруг и к ней наведаются. Данило хоть никакой и не начальник был, но человек работящий, старательный, Советская власть таких отмечала, и он Советскую власть уважал. Утречком погнала козу в стадо — и мимо Гутихиного двора, будто ненароком, прошлась. Двери настежь, окна повыбиты, следы от машины на песке. Соседи говорят: приезжала ночью «черная карета» за Гутихой. Той ночью многих из села взяли. Надийка с дочкой пересидела на чердаке у Гали, а ночью наварила она картошки в мундирах, весла в чулане нашла — и к берегу. В устье Пшенички, в тальнике, стояла Данилова лодка, Сашко все бегал, присматривал за ней. Посадила Гутиху с дочкой в эту лодку, помогла к Днепру, на широкую воду, выгрести, Гутихе, как и Поночивне, не привыкать с веслами управляться, еще девчонками за лозой и щавелем за Днепр плавали. Глухая была ночь, но кто-то все же подсмотрел, услышал, кто-то нашептал тем проклятым. А может, Шуляк только подозревает, а мстит за давнее. Постращает, постращает, да и отпустит завтра. Может, еще упросит его, чтоб и на работу не гнал, надо ведь спасать дитя. Да и картошку кто без нее выкопает, фасоль полущит? На базар надо — Сашко без обувки в зиму. Андрей — тот на печке пересидит. А Сашко и за козой уберет, и лозы из-за Днепра саночками привезет, и рыбку какую, может, выхватит. Хозяин, хоть от земли чуть на вершок поднялся. А хозяину без обувки как? Весной выменяла за три плетеных корзины бахилы из красной резины. Да ведь резину зимой на босу ногу не обуешь.
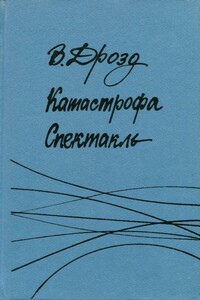
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
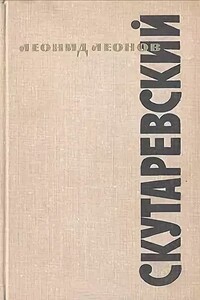
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
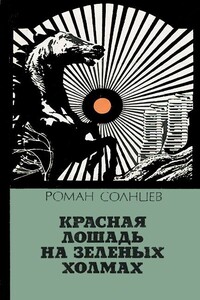
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.