Земля под копытами - [28]
— Ты что?
— Спаровались мы с тобой, как волки в клетке…
Он коротко матюкнулся и стал одеваться. Но Фросина вцепилась в него обеими руками, не выпускала:
— Не уходи, боюсь я одна. Село как пустыня стало, ни одной живой души, вокруг одни немцы да полицаи.
— А тебе кто нужен? По «своим» соскучилась? Дождешься от них, погоди, завяжут юбку над головой, тогда заскучаешь.
Сказал и пожалел, но поздно было. Фросина стояла перед ним как мертвая. Так и ушел Шуляк, не добившись от нее ни слова. А сегодня вот снова рвался к Фросине, как замерзший к огню.
Открыл ворота, завел во двор кобылу: Фросинина улица отовсюду просматривалась насквозь, к чему лишний раз Лизу дразнить. Но никто не приподнял угол ситцевой занавески, никто не выбежал на крыльцо. Он дернул за бечевку щеколды, коленом толкнул дверь в сени — из комнаты повеяло холодом, не топлено с ночи. Хмурый свет осеннего дня едва сочился сквозь бельма занавесок, но Степан сразу углядел на столе обложку синей ученической тетрадки, прислоненную к пузырьку из-под немецкого одеколона. Рванул занавеску с окна. На обложке химическим карандашом размашисто выведено: «Не жди меня и не ищи, я пошла к людям».
Шуляк опустился на лавку. Казалось, что холод, сковавший все его нутро, проступает наружу, застывая ледяной коркой. Врешь — он взломает этот панцирь, эту ледяную могилу! Степан вскочил. В глазах потемнело от ненависти и отчаяния. Ощупью нашел на стене фотографии, рванул с гвоздя рамку и швырнул на пол. Стекло зазвенело, посыпались осколки. В ярости ухватился обеими руками за ножки стула, сбитого из грубых досок, и шарахнул что было сил по оконной раме. Выбив окна, он принялся крушить посудные полки, потом долго колотил стулом по печке, пока в руке не остался лишь покореженный деревянный чурбак. Напоследок оглядел хату и выскочил во двор.
Лютая возня со стулом согрела, он снова почувствовал — живой. «А что, сейчас вот и поеду, — сказал громко, чтобы в леденящей тиши вымершего села услышать хотя бы звук собственного голоса. — Поеду и скажу им, что меня заставили, обязали, что я не по своей воле. Не я — так другой, и кто знает, может, еще хуже меня. Да кабы не я, от ваших Микуличей и следа-то на земле не осталось бы. Мало ли сел немцы спалили дотла? А я порядок держал и село сберег. В первый же день на сходе сказал: немца не трожьте, если хоть один из вас поднимет на немца руку, все погибнем. И вообще, кто теперь по оврагам прячется? Старухи древние да бабы, которые из общей колонны удрали. Нашел кого бояться! А Фросину за косы схвачу, к седлу примотаю и по всему полю, стерву, проволоку».
Шуляк огородом свел кобылу в ров, потом поехал левадой, в сторону колхозного сада. За садом начиналась гряда холмов, выгоревших этим засушливым летом. А за холмами ровной лентой тянулось поле. По его краю змеей петлял самый глубокий в Микуличах овраг — Глубоким его и называли. Прошлой весной поле засадили картошкой. Но как ни лез Степан из кожи вон, все равно не смог заставить людей выкопать ее — каждый тянулся к своему огородику, Теперь ехал по глухим зарослям бурьяна, лишь кое-где изредка проглядывала картофельная ботва. На косогоре, над оврагом, паслась коза, играли дети, белел стожок сена (кто-то обкосил пруды, а убрать не успел). В ложбине три женщины рыли руками картошку. Издали Степан не различал лиц, видел лишь одинаковые темные фигуры в фуфайках. Из-за копны раздался свист, ребятню как ветром сдуло, женщины выпрямились и тоже побежали к оврагу; коза вертела головой, отчаянно упираясь, но, видно, ее с силой дернули за веревку, и она тоже исчезла.
Теперь Глубокий казался совершенно безлюдным, травинка не шелохнется над кромкой оврага, но Степан чуял: десятки враждебных глаз следят, пулями пронзают его. «Стрелять станут — упаду в бурьян, но все одно доползу к ним, — стучала в висках звонкая и неотступная мысль. — Брошусь на колени: люди добрые, отцы родные, простите… Так ведь не простят, не помилуют. Собственными руками, которыми вот только картошку здесь рыли, бабы задушат меня…» Он почувствовал на шее мертвое кольцо женских пальцев, испачканных в мокром, холодном черноземе. «И пикнуть не дадут. Их много, я — один. Их так много, что когда разом смотрят на тебя, а ты — на голом месте, как мишень на стрельбище, — дышать нечем. А может, в Глубоком и кто-то из партизан скрывается или даже большевистские солдаты сховались, долго ли ночью переплыть через Днепр, пройти овражками — и в тыл; глядишь, чего доброго, там и сам Маркиян Гута объявится. В него целится, прямо в голову, нарочно подпускает ближе, чтоб наверняка. Гута — тот не промахнется…»
В голове закололо, будто там и впрямь засела партизанская пуля. Не помня себя хлестнул лошадь и, припав к гриве, вихрем понесся назад, к колхозному саду. А пока скакал по полю, тысячи смертоносных шмелей впивались в спину, и он тысячу раз умирал. Опомнился только по ту сторону холмов. Черт с ней, с этой шлюхой. А дороги к людям у него нет и не будет. Он верно решил: надо собирать барахло и бежать без оглядки куда глаза глядят. Да и что на самом-то деле — не навечно же он привязан к этим оврагам, к голым холмам? Он не старик еще, и сила в теле есть. Куда бы ни забросила судьба, не пропадет. Пусть большевики даже выгонят немца, но в Европу-то им ходу не дадут. Золота немного припас, купит где-нибудь кусок земли и четыре стены, Лиза к работе охоча, сын подрастет. А земля, на которой родился, что одежка: снашивают одну — покупают другую. Было бы еще что-то путное, земля была бы как земля, а то — обрывы одни, сам черт ногу сломит, да полынь.
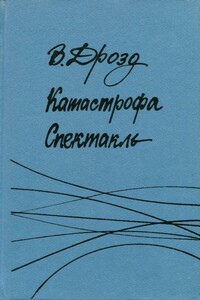
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

В повестях калининского прозаика Юрия Козлова с художественной достоверностью прослеживается судьба героев с их детства до времени суровых испытаний в годы Великой Отечественной войны, когда они, еще не переступив порога юности, добиваются призыва в армию и достойно заменяют погибших на полях сражений отцов и старших братьев. Завершает книгу повесть «Из эвенкийской тетради», герои которой — все те же недавние молодые защитники Родины — приезжают с геологической экспедицией осваивать природные богатства сибирской тайги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
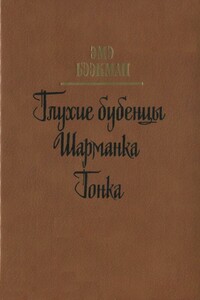
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.
