Земля под копытами - [27]
Убитый был не Гута, хотя и очень похож на Маркияна.
Он лежал под тыном, возле сборни, в суконных штанах-галифе, уже без сапог, в старом пиджачке, измазанном на груди красным. Из коротких рукавов пиджачка торчали палками белые, словно выструганные из дерева, руки. По щекам мертвеца ползали муравьи. Смерть выглядела непривлекательно, да и что хорошего может быть в смерти. «Во, доборолся за родную землю. — Шуляк сложил губы в жесткую усмешку. — Теперь вечно жить будешь в родной земельке, родимых червяков кормить…»
И вдруг Степан понял, что втайне завидует погибшему партизану. Немцы, конечно, зароют труп где придется, но вернутся в село красные — придут люди и похоронят его и всех погибших красноармейцев в братской могиле, в центре Вересочей; над Днепром памятник поставят, фамилии золотой краской напишут, а может, и карточки налепят. А ему, Конюшу, и на сельском кладбище места не найдется, вороны да собаки кости растаскают. Господи, да ведь это счастье — воевать и погибнуть за свою землю, зная, что вечно будешь лежать в своей земле и никто твоих костей не потревожит! А этот вот, долговязый, в галифе, наверное, даже не знал, не ценил этого. За что же ему такая доля, чем таким особенным заслужил ее? Или судьбы там, на небе, с закрытыми глазами раздают — кому какая попадется? Шуляк сплюнул под ноги: мертвому живой завидует! И вскочил в седло.
Колонна крытых брезентом немецких машин догнала Шуляка, едва достиг крайних хат. Степан съехал на обочину. Бряцали железом цепи на колесах, машины тяжело и властно подминали под себя дорогу, из-под брезента тускло поблескивали каски и автоматы, в хвосте колонны рокотали три танкетки. «А может, еще и обойдется, — подумал Шуляк. — Вон какую силищу кинули. И все, что сейчас пережил, — лишь минутный страх, для науки, чтоб должно ценил свое везенье…»
В первые минуты он не услышал и не заметил налетевших самолетов, скорее шкурой почувствовал опасность. Как в кошмарном сне: отовсюду на него глядела смерть, и не было сил двинуть ни рукой, ни ногой. Немцы спрыгивали с машин и разбегались по обочинам, где росли до войны густые вербы, а теперь торчали темные пни. Танкетки повернули в поле. Кобыла мелко дрожала под Степаном. Наконец он увидел и самолеты, совсем низко, они разворачивались над полем и нависали над дорогой. Степан соскользнул с седла прямо в грязь, как в перину: кобыла пропала в какой-то ложбине, как не было ее. Шуляк, вжавшись в колею с грязной водой, слышал адский, все нарастающий рев самолетов. Ему казалось, что с него живьем сдирают шкуру, водят вдоль хребта раскаленным утюгом. Все онемело в нем. Тело жило отдельно от сознания и способно было лишь на одно: вжиматься глубже и глубже в вязкую жижу, в густую осеннюю грязь. «Господи, если ты еще существуешь, с этой минуты верую в тебя — только дай жить, дай жить! Это мне за то, что мертвому позавидовал. Лучше живым червем быть, чем мертвым орлом, — шептал он, как в горячке, силясь вспомнить молитву, которую слышал от старосты с Сумщины, но молитва не шла на ум, голова гудела, как барабан. — Господи, родимый мой спаситель, и ты, святой Николай-угодник и чудотворец, помилуйте и спасите…»
От дороги вновь громыхнуло, на Шуляка посыпались комья, следом, над самой его головой пронеслись самолеты, зачавкали в соседней колее пули. «Господи, остаться бы в живых — только бы меня здесь и видели! — молил Шуляк. — Плевал я с высокой горы на эти чертовы суглинки. Родина человека там, где ему сытно и тепло и где по нему не бьют из пулеметов…» Он заставил себя поднять голову. Самолеты, сверкая красными звездами, разворачивались для новой атаки. Степан вскочил и бросился бежать по стерне к ложбине, не чуя под собой ног, ничего не видя и не слыша, пока не прыгнул в размытый водой боковой овражек.
Когда наконец самолеты улетели, он разыскал кобылу. Недавний страх сковал мертвенным холодом все его нутро. Шуляку казалось, что не он сам верхом въезжает в село, а кто-то везет в гробу его бездыханное тело — осенняя дорога бугристая, и тело безжизненной грудой бьется о доски. Из всего, что он мог вспомнить из своей жизни, лишь воспоминание о горячих, пышных караваях Фросининых грудей горячило кровь в жилах, разгоняло холод смерти, что так близко пронеслась над ним…
Степан дернул за уздечку, и кобыла свернула в улочку, ведущую к Фросининому двору. Даже с Лизой у него никогда не бывало такого, хоть Лиза и моложе. Та всегда была покорной, как земля под плугом, и только. Фросина поначалу еще показывала норов, но потом уж и сама ждала Степана, сердилась, когда он припаздывал. Сто чертей в бабу вселились: доведет до полного изнеможения и хохочет, когда уж нет силушки у коня ходить в борозде…
Фросина жила, как перед концом света, словно нет ничего впереди, да и не нужно. Он так не мог, потому что имел еще зацепку на этом свете: сын, которого скоро народит Лиза. У Фросины детей не было и вряд ли когда будут: какого только зелья не попила за те два года, что наезжал к ней лейтенант Курт, — таскаться баба таскалась, а родить от немца не хотела.
Каждую ночь на селе что-нибудь горело: то хаты, то фермы, то ветряк на Волчьей горе. Когда горела мельница, ночь была ветреная, и казалось издали, будто кто-то зовет на помощь, размахивая огненными руками. Дело прошлое: вскоре после первой своей женитьбы Степан надумал купить ту мельницу. Потом немного работал на ней мельником, уже от колхоза. Неплохо тогда подлатался, молол тайком с половины тем, кто не хотел записываться в колхоз. Захаживали к мельнику и молодицы, женщин Шуляк никогда не чурался, да и они его вниманием не обделяли. Только вскоре жирный кусок застрял в горле, пошел по селу слушок про Степановы делишки, запахло тюрьмой, и Шуляк подал на правление заявление об уходе. Теперь вот ветряк горел. Горели вместе с ним его дни и шальные ночки, но ничто не бередило душу, будто умерла она давно. Сам себя хоронил — по кусочку. От живого оставались Фросина и будущий сын. Отблески огня метались по хате, Фросина прильнула к нему, как в омут нырнула, а лицо в слезах. Шуляк провел ладонью по ее мокрым щекам:
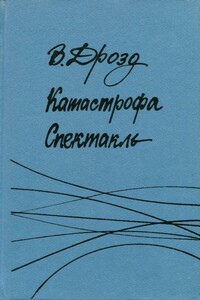
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

В повестях калининского прозаика Юрия Козлова с художественной достоверностью прослеживается судьба героев с их детства до времени суровых испытаний в годы Великой Отечественной войны, когда они, еще не переступив порога юности, добиваются призыва в армию и достойно заменяют погибших на полях сражений отцов и старших братьев. Завершает книгу повесть «Из эвенкийской тетради», герои которой — все те же недавние молодые защитники Родины — приезжают с геологической экспедицией осваивать природные богатства сибирской тайги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
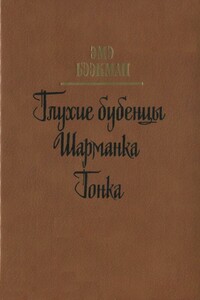
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.
