Зеленая стрела удачи - [100]
Всего тех братьев было четверо. Все вчетвером и навалились на него. А она стояла в двери, как в раме, далекая, безучастная, только с постели поднятая. Уж к ночи время поворачивало, когда он пришел.
С ног свалили сразу. Здоровые ребята. Тут же на крыльце порешить хотели. Шипели: «У, гад! У, сука! Убью, гада...» А ведь он же не в чужой, в свой дом вернулся.
Били его, а он боли не чувствовал. Смотрел на нее. И мысль была, что ж ты за сволочь такая, Тоша, что ж ты за подлая тварь, если рукой не двинешь. Не крикнешь?
Младшенький Сеня, тупой битюжок, особо расхрабрился при братьях и, подрожав в возбужденье, ногой ему сунул. На вот! Это его и отрезвило. Вскочил, выдернул из-за пазухи браунинг. Хоть и военного времени, но прапорщик, научили кой-чему! Хороший был у него шпалер, перекинул в руке.
Братья попятились.
— Стой, — сказал спокойно, — стрелять по одному буду.
И перестрелял бы всех! Но она не попятилась, не охнула, не вздрогнула даже, когда блеснула в его руке вороненая сталь. Она, как стояла, так и продолжала стоять в дверях. И не было у нее ни испуга, ни удивления. Какую ж силу она имела над ним и как была уверена в силе в своей!
Младшенького очень хотелось пришить. За ножонку за его. Еле сдержался. Но поставил на колени и валенок ему к морде: «Лижи!» И тот лизнул раз, другой. «А ну давай живей, гаденыш! Чтоб в жизни ты разбирался, тварь тупая!» Ну да радости от того лизанья не было никакой. Ни тогда, ни после, в утешенье. Отпихнул в сторону, как куль с дерьмом. «Эх, Тоша, Тоша...» — только и сказал. И ушел.
Устроился у Яшки Жмыхова. Тот встретил как отца родного. Бельишко свое дал стираное, баретки, чаек сахарином подсластил, на следующий же день привел старого марьинского печатника, рисовальщика фальшивых паспортов и видов на жительство, тот сделал Николаю Ильичу все высшим сортом, а от денег отказался.
— Чего с тебя взять, — сказал кисло, — живи на здоровьице. Все мы ныне пролетарии. Да здравствует товарищ Калинин! Хотишь, за него распишусь?
— Научился уже!
— Служба такая...
Новую жизнь начинал Николай Ильич гражданин Алабин на Марьинском рынке. Начинал как надо.
Весь рынок был обнесен деревянным забором, и ворота были. Сторож их на ночь замыкал. Так вот в одну ночь весь забор тот исчез до последнего столбика, будто его и не было вовсе. В МУРе только диву дались: ну и шалят же в Марьиной роще!
Из ворованных досок сколотил себе будку, окантовал железом. Что осталось, обменял на кожевенный товар и начал заниматься сапожным ремеслом. Сапожники всегда нужны, что в царское, что в советское время.
На рынке и встретил он Глашу. Зимой это было. Затемно, рынок уже гудел. Прибывали хлебные торгаши, и в мясных рядах, откуда несло, как из нужника, начинали торговать студнем из костей.
Появился контуженный телефонист Федя. Мотался сонный между рядами в рваной шинели.
— Федь! — кричали ему торговки-сахаринщицы, — Федь, колбаски хотишь?
— Колбаски? — вздрагивал Федя и подносил к уху кулак. — Живот! — кричал. — Живот, колбаски хотишь? Кто говорит? Федя говорит... Даю отбой!
Сахаринщицы хохотали.
Светало. И вроде как падал снежок. У новых ворот ходил дежурный милиционер. И вдруг услышал Алабин рядом тонкий голосок:
— Лориган, Коти... Лориган, Коти...
Оглянулся, увидел женщину явно из бывших. Шубка на ней была поношенная и серый крестьянский платок.
— Лориган, Коти...
— Чего меняешь? — спросил. Тогда не продавали, меняли.
— Духи. Вам не надо?
— Нам не надо. Нашла товар.
— Лориган, Коти...
Николай Ильич сидел на порожке своей будки, не спеша сучил дратву, подшивал заказчику валенки. Жизнь у него почти что наладилась. Он уже завел нужные знакомства, потихоньку скупал краденое, жратва появилась, начал подкармливать голодных Яшкиных детишек.
Вечером закрывал будку, а та в вытертой шубке все еще ходила по рынку.
— Лориган, Коти...
— Тебя как зовут?
— Глафира Федоровна.
— Выходит, весь день без почина.
— Выходит, так.
— Кушать хочешь?
— Хочу.
— Идем со мной. Чего так мерзнуть... Я тебя покормлю. Идем.
Он привел ее к себе, накормил вареной картошкой и хлебом, старался не смотреть, как она ест, вспомнил того толстого генерала и вышел, сказал в дверях:
— Давай наворачивай. Я сейчас... — И, когда вернулся, она уже прибрала на столе, сидела, грела над печкой руки. Пальцы у нее были длинные, тонкие. Сразу видно, дворянская рука, голубая кровь. Все так, а жрать-то оно всем хочется, что белая кость, что черная...
— Спасибо.
— Пожалуйста вам.
Уходить из тепла на мороз она не спешила, но и не заискивала перед ним и расплачиваться никак не собиралась, сидела молча, смотрела на него без страха, будто он и должен был ее кормить так вот за спасибо только.
— Где живешь, Глафира?
— Где придется. У знакомых живу. Когда у кого.
— Не сладко.
Она была замужем. Ее мужа, полковника, убили еще в шестнадцатом в Карпатах. Сама она жила в Петрограде. В Москве задержалась случайно, приехала с подругой, тоже офицерской вдовой, хотели пробираться на юг — к своим. Подруга заболела тифом.
Он постелил ей у печки. Отдал свою подушку, одеяло, сказал: «Стелись», — и вышел помыть посуду.
Когда вернулся, она рванула одеяло на плечи, охнула.
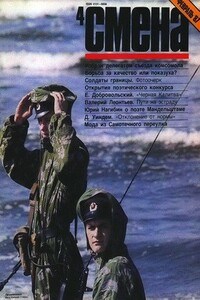
Война — не женская работа, но с некоторых пор старший батальонный комиссар ловил себя на том, что ни один мужчина не сможет так вести себя за телеграфным аппаратом, как эти девчонки, когда стоит рядом командир штаба, нервничает, говорит быстро, а то и словцо русское крылатое ввернет поэнергичней, которое пропустить следует, а все остальное надо передать быстро, без искажений, понимая военную терминологию, это тебе не «жду, целую, встречай!» — это война, судьба миллионов…

В этой книге три части, объединенные исторически и композиционно. В основу положены реальные события и судьбы большой рабочей семьи Кузяевых, родоначальник которой был шофером у купцов Рябушинских, строивших АМО, а сын его стал заместителем генерального директора ЗИЛа. В жизни семьи Кузяевых отразилась история страны — индустриализация, война, восстановление, реконструкция… Сыновья и дочери шофера Кузяева — люди сложной судьбы, их биографии складываются непросто и прочно, как складывалось автомобильное дело, которому все они служили и служат по сей день.

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».