Зеленая стрела удачи - [99]
Он уже начал выздоравливать, ходил на костылях, поскрипывал тыр-пыр, тыр-пыр, как тот медведь, ворвалась к ним, село это было или местечко, он сразу запамятовал, банда атамана Сковородкина, который со всеми воевал — и с красными, и с белыми, и с немцами. Все живое имел желание порубать.
В малиновых бриджах, в серой смушковой папахе атаман скакал впереди, размахивая кривой саблей. За ним с гиканьем, со свистом неслась братва, кто в чем. «Сдавайси!..»
Первым делом разнесли винный склад. Пустили в расход всех жидов. Обезумевшие от страха обыватели попрятались в подвалы. Били стекла, грузили на подводы награбленное барахло, икали с перепоя и стреляли из маузеров в белый свет.
К вечеру добрались до госпиталя. С незнакомым офицером, совсем мальчиком, Алабин спрятался под лестницей в закутке, заставленном госпитальной рухлядью — тюками с бельем, окровавленными матрацами, одеялами, кроватными сетками. Лежал ни жив, ни мертв. Ночью банда снялась и в тележном скрипе, с пьяными песнями ушла в степь. «Эх, воля, да неволя, чужа-а-я судьба...»
В больничных халатах, без документов, без ничего в ту же ночь тронулись они с тем мальчиком на Дон. Офицером он был, драгунским штаб-ротмистром. От усталости, от боли, от страха плакал драгун навзрыд. Николай Ильич его успокаивал, перевязывал ему раненую руку и, снимая со зловонной дыры белых червей, успокаивал: «Это до свадьбы заживет. Кость у тебя цела, ротмистр».
Им повезло. Они наткнулись на казачий разъезд. И — надо ж такому быть! — офицер наклонился в седле, признал: «Карташев, да это никак ты!»
Их тут же доставили в штаб. Толстый генерал в мятом френче без орденов, с золотой часовой цепочкой из кармана в карман, приказал прежде всего накормить. И вышел, чтоб не видеть, как они едят.
Их обули, одели, выписали документы. Оружие дали. Офицеры устроили им ужин с самогоном тут же в штабе, размещавшемся в галантерейной разоренной лавке.
Хозяева, наверное, жили наверху, а внизу на пыльных полках валялись пустые коробки, мылом пахло и калошами. Сбежали хозяева. Николай Ильич постоял у конторки, за которой в торговые дни старший приказчик вел записи, и заметил в стене медную пластинку с двумя крючками, будто для того сделанными, чтоб зонтики на них вешать или трости. Усмехнулся невесело. Вспомнил: точно такая же штука была у боровского купца Болотова, он хвастался, когда отец торговал у него мыловаренный заводец.
— Господа! Господа, — кричал юный ротмистр, уже охмелевший. — Господа, мы еще вступим в Москву! Всех большевиков на фонари!
— На фонари! — гудели офицеры.
— Морем крови зальем!
«Устал я от крови», — думал Николай Ильич, а ротмистр веселился. Он уже все забыл. Банду и белых червей, жравших его мясо. Вот она, молодость, все забыл! Он уже был доволен собой и жизнью, данной до без конца. Офицеры смотрели на него как на героя, и он, картинно подбоченясь над столом, поднимал граненый стакан с желтым самогоном.
«Глупый мальчик. Совсем дурачок», — думал Николай Ильич, и в мыслях был уже внизу, возле конторки, возле той медной пластинки с двумя крючками. Скорей бы спать легли! Скорей уж...
А ротмистр, охмелев, запел срывающимся тенорком марш драгунского Каргопольского полка, и господа офицеры подтянули: «Когда войска Наполеона пришли из западных сторон, — раз, два! — был авангард Багратиона судьбой на гибель обречен. Обречен!»
Был, был... Все было. И Алабин начал подпевать, хмель ему в голову ударил или просто слова знакомые... Отца вспомнил, Тарутино, застолья отцовские.
«Бой закипал и продолжался все горячей и горячей. Горячей! Людскою кровью напитался, — раз, два! — краснел шенграбенский ручей. Краснел шенграбенский ручей!»
И ручей был, и Багратион был. Все было. Все было, и кончилось все...
Спать легли поздно. Алабин дождался, когда все заснут, оделся и с сапогами в руках, чтоб не греметь, босиком тихонечко спустился вниз.
В пыльном окне желтым светом наливалась луна, качались тополиные ветки. На крыльце зевал часовой, постукивал прикладом по деревяшке. Тишина стояла бесконечная, до рассвета далеко.
Николай Ильич подошел к стене, взялся за крючки на медной пластинке, нажал. Не сразу, но пластинка поддалась, без скрипа отошла в сторону. Он оглянулся, сунул трясущуюся руку в открывшуюся нишу и обомлел. Он не ожидал, что найдет так много! На ощупь много!
Деньги там же, в лавке, рассовал по карманам. Ассигнации отдельно, золото отдельно. Все колечки, сережки, перстенечки ссыпал в кисет. Странный тот был хозяин, если держал в лавке такое. Чудак. Ну да, может, просто убрать не успел...
Надо было решаться. Николай Ильич прислушался. Офицеры спали. Было тихо. Лестница, ведущая наверх, лунно светилась резким изломом. Обулся. Распахнул окно. Решил, если что — скажу упился.
Утром он уже был далеко. Он шел на Москву.
В неведомой закопченной деревне на золото — это кому ж сказать! — купил армяк и валенки: зима приближалась, пока он шел. И чем ближе было до Москвы, тем теплей становилось на душе. Все чаще и чаще вспоминал Тошку, думал, мотая головой, ждет, небось, проскучилась.
Ему хотелось тихой жизни, детей. В бане попариться хотелось до жути и завернуться в простыню, выпростав босые ноги. Он ведь о том не знал, что в Москве его не ждали. И другой там был утешитель в его доме, младший сынок Бориса Ильича, хозяина трактира «Золотое место».
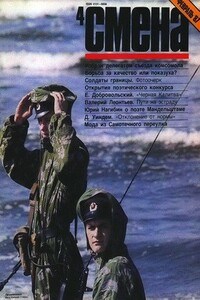
Война — не женская работа, но с некоторых пор старший батальонный комиссар ловил себя на том, что ни один мужчина не сможет так вести себя за телеграфным аппаратом, как эти девчонки, когда стоит рядом командир штаба, нервничает, говорит быстро, а то и словцо русское крылатое ввернет поэнергичней, которое пропустить следует, а все остальное надо передать быстро, без искажений, понимая военную терминологию, это тебе не «жду, целую, встречай!» — это война, судьба миллионов…

В этой книге три части, объединенные исторически и композиционно. В основу положены реальные события и судьбы большой рабочей семьи Кузяевых, родоначальник которой был шофером у купцов Рябушинских, строивших АМО, а сын его стал заместителем генерального директора ЗИЛа. В жизни семьи Кузяевых отразилась история страны — индустриализация, война, восстановление, реконструкция… Сыновья и дочери шофера Кузяева — люди сложной судьбы, их биографии складываются непросто и прочно, как складывалось автомобильное дело, которому все они служили и служат по сей день.

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».