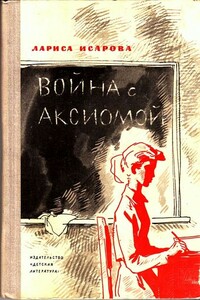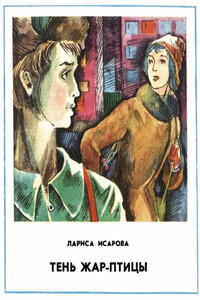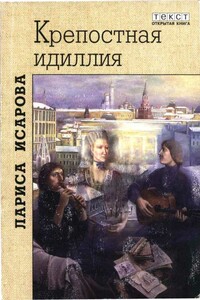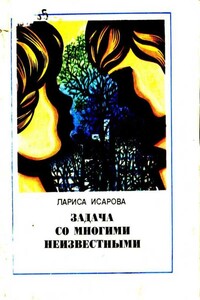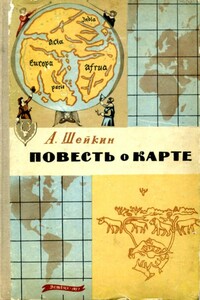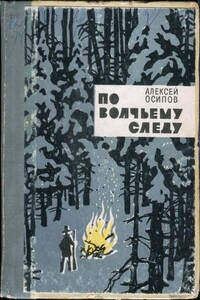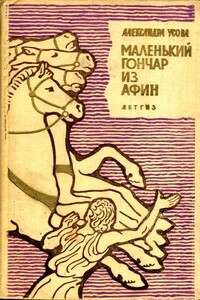Потом начали танцевать; я немного покружилась с Севой…
Конечно, сама виновата. Надо было сразу уйти, когда я увидела обман. Но так было паршиво у меня на душе, что я смалодушничала. Мне казалось, что лучше я поскучаю на людях, чем буду раздраженно общаться с родителями.
Потом начали рассказывать пошлые анекдоты. Я сказала, что не понимаю девушек, которые такое терпят в своем присутствии. А Вера захохотала и назвала меня цыпленком. Правда, Сева извинился и позвал меня на кухню готовить чай. Я пошла; мне даже в голову не могло прийти, что он на что-то осмелится. А в кухне он запер дверь и стал говорить, что не позволит мне валять дурака, что все девчонки только себе цену набивают, а потом приручаются. И потребовал, чтоб я его поцеловала, а глаза стали красные, мутные, как у бешеной собаки.
Я сказала, что насильно никого не поцелую; я чуть от ярости не задохнулась, а он стал приближаться, расставив руки, точно ловил курицу. Я отскочила, но он попробовал меня обнять; а когда я с силой толкнула его, лицо стало как у настоящего пьяного. Он сжал мне руку так, что на ней до сих пор синяки, и прошипел, что, пока я не сделаю «ему приятное», он дверь не откроет. И еще добавил; «Ори, не ори — никто не поможет, здесь все одним делом занимаются; знала, зачем шла». Я оглядела кухонный стол; мне нечем было его стукнуть, разве что чайником, но он вскипел, я боялась ошпарить этого идиота кипятком. Тогда я хлопнула его по физиономии и подбежала к окну. Я сказала шепотом, что, если он меня не выпустит, я выпрыгну. Наверное, у меня был такой вид, что он поверил.
Мы молча смотрели друг на друга минуты четыре, потом он вздохнул, точно просыпаясь, открыл дверь, пошел за мной в переднюю; он бормотал, что я «дикая, шуток не понимаю», а я никак в рукава пальто попасть не могла — так тряслась. И тут он сказал, что удивляется моему ханжеству, что Верка ему передавала все о Викторе, тогда почему со взрослым парнем я могла, а с ним нет? И он добавил, что это его и спровоцировало, что раньше он бы меня пальцем не тронул, я была святыня, он столько стихов обо мне написал. А потом понял, что нет чистых девчонок, дурак, кто в это поверит, кто к ним относится с уважением…
На прощанье я сказала, что прошу больше ко мне не подходить, не звонить, что я не хочу знать ни его, ни Верку и что он — подлец и ничтожество!
Когда я вышла на улицу, еще было не поздно, но уже горели фонари, только тускло, сквозь дождь. Я промочила ноги, но долго бродила, я так мечтала простудиться насмерть.
Для чего взрослые врут о любви? Я ведь, как дура, верила и книгам, и музыке, и кинофильмам…
Пришло письмо от Сороки.
«Здравствуй, Катя!
Долго не хотел писать. Думал, авось пройдет, зачем навязываться девочке, которая тебя и знать не хочет… Но не проходит. Я часто вспоминаю нашу работу в колхозе, твой шарф, ночь перед отъездом…
Мы живем в Новосибирске. Школа здесь очень хорошая, есть даже бассейн для плаванья. И девочки приличные, и товарищи. По-прежнему мечтаю о дрессировке собак. И о наших прогулках втроем: ты, я и Мулат. Он тоже по тебе скучает. Иногда я говорю: «Где Катя?» И он поднимает уши, подходит к окну и скулит…
Напиши, если захочется всерьез, а не из вежливости…
Сорока, если ты меня помнишь».
Я растеряна. Он ведь думает, что я — прежняя, а я столько выстрадала в этой истории с Севкой. Точно разом постарела, перестала быть младенцем, как Сорока меня когда-то называл с высоты своего роста. Мне очень трудно верить мальчишкам, словам о дружбе, о симпатиях. Севка мне даже стихи посвящал, а на деле оказался скотом!
Может быть, написать обо всем Сороке по-честному, мы же были друзьями? Но уже прошло десять месяцев после его отъезда, глупо как-то «исповедоваться» на расстоянии.
А тянет. Об этой истории никто не знает, кроме участников. Неужели я такая же болтунья, как все девчонки, и мне тоже надо с кем-то о своих личных делах трещать?! А вот мама рассказывала, что о ее мальчиках не знали ни подруги, ни родители, она всегда была сдержанна и загадочна. Она считает, что нельзя себя унижать откровенностями…
И не с кем в результате посоветоваться. С мамой — никогда в жизни: она сначала посочувствует и тут же вечером при папе уколет; а с Мариной Владимировной отношения у нас самые официальные, я стараюсь смотреть ей не в глаза, а на переносицу, тогда не так стыдно…
Ну что стоило Сороке написать хоть месяц назад! Неужели в жизни всегда так будет? Когда тебе нужен человек, он не отзывается, а когда наконец объявится — у тебя все прошло.
Все-таки у меня есть сила воли. Я пошла к Мар-Владе. Я понимала, что придется извиниться, я даже решила это сделать, но она приняла меня так, точно мы вчера расстались по-человечески…
Я все сказала честно, дала письмо Сороки, а она покачала головой.
— Жалко, что тебя в детстве мало пороли. А в общем, ты нарушила свой принцип…
— Какой?
— Не быть бараном…
Она испытующе и ехидно смотрела на меня, ожидая новой обиды, но мне было так хорошо, спокойно в ее комнате, набитой книгами, что я не могла злиться. И вообще мне казалось, что со времени нашей ссоры прошел не месяц, а год.