Записки русского интеллигента - [4]
[…] В. Д. Зёрнов в течение нескольких лет был лаборантом при Физическом институте, вёл занятия со студентами в лаборатории проф[ессора] А. П. Соколова, а также состоял преподавателем физики и математики в средних учебных заведениях – педагогический навык и умение обращаться со студенческой массой у него есть. Как лектора мне приходилось его не раз слышать, […] – лекторские данные у него хорошие: он умеет ясно, просто и интересно делать доклад. […]
Вот моё мнение о В. Д. Зёрнове как о возможном кандидате, и я буду очень рад, если факультету угодно будет это мнение выслушать»{22}.
Однако ввиду затянувшихся переговоров с Варшавой (главной трудностью которых стал, по-видимому, вопрос о правах и полномочиях будущего профессора, ибо, как справедливо считал П. Н. Лебедев, «только при абсолютно независимом пользовании помещением лаборатории, приборами и определённым бюджетом молодой учёный может спокойно и успешно продолжать свои научные работы»{23}), назначение это не состоялось. К тому же 10 июня 1909 года, после полувековой многострадальной эпопеи всевозможных обращений и ходатайств в высшие правительственные инстанции, на императорской яхте «Штандарт» Николаем II был подписан закон «Об основании университета в г. Саратове и отпуске средств на этот предмет»{24}. В связи с этим В. Д. Зёрнов кардинальным образом меняет свои планы: отказавшись от туманной перспективы профессорской деятельности в Варшавском университете, он предлагает свою кандидатуру на замещение аналогичной кафедры в Саратове. Помимо родных и близких молодого учёного это его решение с пониманием и одобрением встретил также П. Н. Лебедев. Более того, в своём письменном обращении к старейшине русских физиков, члену совета министра народного просвещения Н. Н. Шиллеру, он лично поддержал это ходатайство.
«…Мой ученик магистр физики Владимир Дмитриевич Зёрнов, – писал по этому поводу Лебедев, – подал в Министерство прошение о зачислении его кандидатом по физике вновь учреждаемого Саратовского университета. Так как его прошение поступит, вероятно, на Ваше рассмотрение, то я позволил бы себе сказать несколько слов о Зёрнове как о физике: у меня он работал около пяти лет [неразб.] над своей задачей – всегда добросовестно и внимательно, а в случае возникающих сомнений как настоящий физик и притом физик ловкий, умеющий критически относиться к своей работе, не жалел рабочего времени; хотя работа и сделана в моей лаборатории, я всё-таки могу сказать, что сделана она хорошо. Зёрнов принимал деятельное участие в наших коллоквиях – лектор он хороший: говорит ясно, толково, спокойно и всегда только о том, что ему самому совершенно ясно. Добавлю ещё, что он лет пять был ассистентом у Соколова и имеет достаточный опыт в обхождении со студентами на практических работах. Со своей стороны я бы мог рекомендовать его со спокойной совестью, вполне уверенный, что он любит самоё дело, сможет толково его организовать и быть хорошим руководителем»{25}.
Саратовский период жизни и деятельности В. Д. Зёрнова начался с 1 июля 1909 года, когда по высочайшему указу он был утверждён в качестве исполняющего должность экстраординарного профессора по кафедре физики Саратовского университета.
Среди первых семи профессоров только что открывшегося университета Владимир Дмитриевич оказался самым молодым – ему исполнился только 31 год, но это не помешало ему сразу же продемонстрировать свои недюжинные организаторские способности, умение убеждать в необходимости принятия того или иного важного решения. Его личная распорядительность и оперативность в доставке оборудования позволили в кратчайшие сроки, уже в конце сентября 1909 года, начать чтение курса физики не «мелового», как говорится, а экспериментального, с демонстрацией всех необходимых опытов.
В. Д. Зёрнов вошёл также в состав строительной комиссии по возведению собственных зданий университета, после чего главным делом его стала забота о Физическом институте, строительство которого началось 30 апреля 1911 года: «Сегодня, – извещал Владимир Дмитриевич жену, – начали земляные работы по институту. […] Начали стройку с первой весенней грозой и дождём. Мюфке говорит – это хорошо: „Святой водой начало работ окроплено”»{26}.
Строительство завершилось в конце 1913 года. В. Д. Зёрнов чувствовал себя самым счастливым человеком: «Институт готов. Вот всё, что мне надо. А институтом я очень доволен. Такой он симпатичный. Мне кажется, он симпатичнее всех зданий, или уж оттого, что мой»{27}.
Здесь же, в Саратове, застали В. Д. Зёрнова и революционные события 1917 года. Он с огромным воодушевлением встретил Февральскую революцию и падение самодержавного строя, но довольно прохладно отнёсся к событиям Октября, не в силах, подобно многим другим представителям старой «буржуазной» интеллигенции, адекватно воспринять идею пролетарской диктатуры. Однако, несмотря ни на какие, даже самые невероятные, перипетии социально-экономической и политической жизни, он продолжал добросовестно исполнять свои обязанности. Возглавив с 5 сентября 1917 года открывшийся в Саратовском университете по решению Временного правительства физико-математический факультет, он старательно собирал для него научно-преподавательский состав: пригласил многих талантливых ученых – физиков и математиков, чьи имена впоследствии прославили отечественную науку: С. А. Богуславского, И. И. Привалова, В. В. Голубева и других.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.
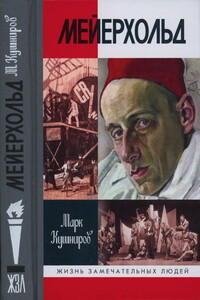
Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.