Записки о войне. Стихотворения и баллады - [4]
На следующее утро эшелон остановился на степной станции Здесь выдавали хлеб темно-коричневый, свежевыпеченный, ржаной. Его отпускали проезжающим, пробегающим, эвакуированным, спешащим на формировку. Однако хлебная гора чудесно не убывала. Теплый запах, окутывавший ее в ноябрьской неморозной изморози, напоминал об уюте и основательности. За две тысячи километров от фронта, за полторы тысячи километров от Москвы Россия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой.
На войне пели: «Когда я на почте служил ямщиком…», «Вот мчится тройка удалая…», «Как во той степи замерзал ямщик…». Важно, что это неразбойничьи, небурлацкие и несолдатские песни, а именно ямщицкие. Преобладало всеобщее ощущение дороги — дальней, зимней, метельной дороги. Кто из нас забудет ощущение военной неизвестности ночью, в теплушке, затерянной среди снежной степи?
Идеология воина, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга. Подобно нецементированным кирпичам они держатся вместе только силой своей тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них. Жизнь утрясает эту кладку, обламывает одни кирпичи об другие. Так, наш древний интернационализм был обломан свежей ненавистью к немцам. Так, самосохранение жестоко «состукивалось» с долгом. Страх перед смертью — со страхом перед дисциплиной. Честолюбие — с партийным презрением к побрякушкам всякого рода.
Один из самых тяжелых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург[5], газетчик. Его труд может быть сравнен только с трудом коллективов «Правды» или «Красной Звезды». Он намного выше труда всех остальных писателей наших. Для многих этот кирпич заменил все остальные, всем — мировоззрение, и сколько молодых офицеров назвало бы себя эренбургианцами, знай они закон словообразования. Все знают, что имя вклада Эренбурга — ненависть. Иногда она была естественным выражением официальной линии. Иногда шла параллельно ей. Иногда, как это было после вступления на немецкую территорию[6], — почти противоречила официальной линии. Как Адам и как Колумб, Эренбург первым вступил в страну ненависти и дал имена ее жителям — фрицы, ее глаголам — выстоять, ее мерилам и законам. Не один из моих знакомых задумчиво отвечал на мои аргументы: «Знаете ли, я все-таки согласен с Эренбургом» — и это всегда относилось к листовкам, к агитации, к пропаганде среди войск противника. Когда министры иностранных дел проводят свою линию с такой неслыханной последовательностью, они должны стреляться при перемене линии.
Эренбург не ушел, он отступил, оставшись «моральной левой оппозицией»[7] к спокойной политике наших оккупационных властей.
Вред его и польза его измеряются большими мерами. Так или иначе, петые им песни еще гудят в ушах наших, еще ничто не заглушило их грозной мелодии. Мы не посмели противопоставить силе ненависти силу любви, а у хладнокровного реализма не бывает силы.
Пропаганда и рассказы освобожденных жителей, запах самого словечка «фриц», историческая нелюбовь к «колбасникам»[8] обусловили специфическое отношение наших солдат к немцам — не презрение, не злобу, а брезгливую ненависть, отношение, равное отношению к лягушкам или саламандрам.
Капитан Назаров, мой комбат, ландскхнет[9] из колхозных агрономов, за обедом рассказывал мне, как он бил пленных в упор, в затылок из автомата.
— Зимой 1941 года на Воронежском[10] фронте взяли в плен сорок фрицев. В штаб армии привели двоих из них. Часть пленных убили штабные офицеры — из любопытства. Остальных заставили снять шинели — «щоб воши их не грызлы». Фрицы «потанцювалы» в открытом кузове, а потом померли потихоньку. «Ось мы идем и чуем — щось торохтит у кузове, як та мерзла картофля. Роздывылысь — а то фрицы, вже застыглы. Мы их повыкыдывали из машины, тай позакыдывали снигом».
20 февраля 1943 года на станции Мичуринск наш эшелон стоял рядом с эшелоном пленных. Здесь были итальянцы, румыны, югославские евреи из рабочего батальона. На платформах валялись десятки желтых трупов. Их крайняя истощенность свидетельствовала, что причиной смерти был голод; однако, достаточно было взглянуть в окно, чтобы понять, что пленные страдают от жажды больше, чем от голода. Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смерзшийся, февральский, политый конской мочой, осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдавали часы, ридикюли, кольца, легко снимавшиеся с истощенных пальцев. Вдоль окон ходила маленькая девочка с испуганными глазами. Она давала большие куски снега — бесплатно. Я подал пленным несколько кусков и приказал страже немедленно напоить их. В окне югославский еврей в бараньей шапке, кричал скребущим по душе голосом: «Я хочу работать! Я не виноват! Я не хочу умереть с голоду!» Я знаю правительственные установки об обращении с пленными. Их выполнение срывают не жестокость, не мстительность, а лень. Мы народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека.
Мне рассказывали один из разительных примеров этой разбойной доброты. Зимой разведчики поймали фрица. Возили его за собой три недели — в комендантской роте. Фриц был забавный и первый в дивизии. Его кормили на убой — тройными порциями пшенной каши. Наконец встал вопрос об отправке его в штаб армии. Никому не хотелось шагать по снегу восемь километров. Фрица накормили досыта — в последний раз, а потом пристрелили в амбаре. Этот пир перед убийством есть черта глубоко национальная.

Автобиографическая проза Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), одного из самых глубоких и своеобразных поэтов военного поколения, известна гораздо меньше, чем его стихи, хотя и не менее блистательна. Дело в том, что писалась она для себя (или для потомков) без надежды быть опубликованной при жизни по цензурным соображениям."Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого, — сказал Давид Самойлов. — Слуцкий выговаривает в прозу то, что невозможно уложить в стиховые размеры, заковать в ямбы". Его "Записки о войне" (а поэт прошел ее всю — "от звонка до звонка") — проза умного, глубокого и в высшей степени честного перед самим собой человека, в ней трагедия войны показана без приукрашивания, без сглаживания острых углов.

Новая книга Бориса Слуцкого «Сегодня и вчера» — третья книга поэта Она почти полностью посвящена современности и открывается циклом стихов-раздумий о наших днях. В разделе «Общежитие» — стихи о мыслях и чувствах, которые приносят советские люди в новые дома; стихи о людях науки, поэтические размышления о ее путях. В разделе «Лирики» — стихи-портреты Асеева, Луначарского, Мартынова, стихи о поэзии. Заключают книгу стихи о юности поэта и годах войны; часть стихов этого раздела печаталась в прежних книгах.Новая книга говорит о возросшем мастерстве Бориса Слуцкого, отражает жанровые поиски интересного советского поэта.
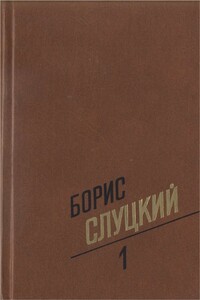
Первый том Собрания сочинений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919–1986) открывается разделом «Из ранних стихов», включающим произведения 30-х — начала 50-х годов. Далее представлены стихотворения из книг «Память» (1957), «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), а также стихотворения 1953–1961 гг., не входящие в книги.

Борис Слуцкий (1919–1986) — один из самых крупных поэтов второй половины XX века. Евгений Евтушенко, Евгений Рейн, Дмитрий Сухарев, Олег Чухонцев, и не только они, называют Слуцкого великим поэтом. Иосиф Бродский говорил, что начал писать стихи благодаря тому, что прочитал Слуцкого.Перед вами избранное самого советского антисоветского поэта. Причем — поэта фронтового поколения. Огромное количество его лучших стихотворений при советской власти не было и не могло быть напечатано. Но именно по его стихам можно изучать реальную историю СССР.

Я историю излагаю… Книга стихотворений. / Сост. Ю. Л. Болдырев. — М.: Правда, 1990.— 480 с.Настоящий том стихотворений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919–1986) несколько необычен по своему построению. Стихи в нем помещены не по хронологии написания, а по хронологии описываемого, так что прочитанные подряд они представят читателю поэтическую летопись жизни советского человека и советского народа за полвека — с 20-х и до 70-х годов нашего столетия. В книгу включено много новых, не публиковавшихся ранее стихотворений поэта.

В настоящий, второй том Собрания сочинений Бориса Слуцкого (1919–1986) включены стихотворения, созданные поэтом в период с 1961 по 1972 год, — из книг: «Работа» (1964), «Современные истории» (1969), «Годовая стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973).
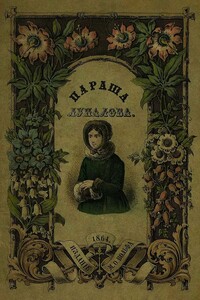
История жизни необыкновенной и неустрашимой девушки, которая совершила высокий подвиг самоотвержения, и пешком пришла из Сибири в Петербург просить у Государя помилования своему отцу.
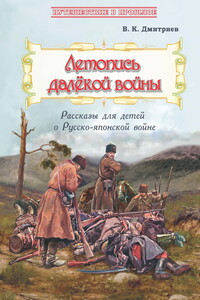
Книга состоит из коротких рассказов, которые перенесут юного читателя в начало XX века. Она посвящена событиям Русско-японской войны. Рассказы адресованы детям среднего и старшего школьного возраста, но будут интересны и взрослым.

История борьбы, мечты, любви и семьи одной женщины на фоне жесткой классовой вражды и трагедии двух Мировых войн… Казалось, что размеренная жизнь обитателей Истерли Холла будет идти своим чередом на протяжении долгих лет. Внутренние механизмы дома работали как часы, пока не вмешалась война. Кухарка Эви Форбс проводит дни в ожидании писем с Западного фронта, где сражаются ее жених и ее брат. Усадьбу превратили в военный госпиталь, и несмотря на скудость средств и перебои с поставкой продуктов, девушка исполнена решимости предоставить уход и пропитание всем нуждающимся.
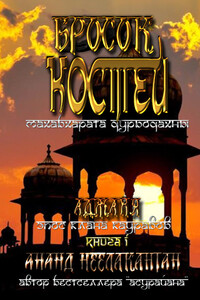
«Махабхарата» без богов, без демонов, без чудес. «Махабхарата», представленная с точки зрения Кауравов. Все действующие лица — обычные люди, со своими достоинствами и недостатками, страстями и амбициями. Всегда ли заветы древних писаний верны? Можно ли оправдать любой поступок судьбой, предназначением или вмешательством богов? Что важнее — долг, дружба, любовь, власть или богатство? Кто даст ответы на извечные вопросы — боги или люди? Предлагаю к ознакомлению мой любительский перевод первой части книги «Аджайя» индийского писателя Ананда Нилакантана.

Рассказ о жизни великого композитора Людвига ван Бетховена. Трагическая судьба композитора воссоздана начиная с его детства. Напряженное повествование развертывается на фоне исторических событий того времени.
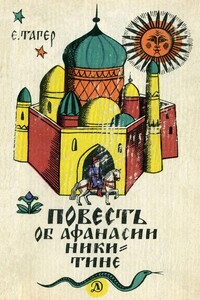
Пятьсот лет назад тверской купец Афанасий Никитин — первым русским путешественником — попал за три моря, в далекую Индию. Около четырех лет пробыл он там и о том, что видел и узнал, оставил записки. По ним и написана эта повесть.