Записки - [248]
Не встречаем ли мы здесь, между искренне ценимым начальником и его сотрудниками по важному народному, общественному делу, той самой сердечной, глубокочеловечной связи, какая существовала за сто лет перед тем между бароном Иоганном Альбрехтом Корфом и достойными сотрудниками в Академии Наук, его чудесных дел и начинаний? Обоих Корфов по всей справедливости оценила, кроме многих соотечественников их, и Европа, в лице лучших умов своих: тому доказательства остались во множестве иностранных книг и журналов. В нашем же отечестве барону Корфу, крупному деятелю нашего столетия, воздана была высшая честь и со стороны верховной власти: через несколько дней после того, как барон М. А. Корф перешел из Императорской библиотеки на службу по II отделению Собственной его величества канцелярии, в качестве главноуправляющего этим отделением, 16 декабря 1861 года последовало высочайшее повеление такого содержания: «Государь Император, желая сохранить навсегда память о заслугах барона Корфа для Императорской публичной библиотеки, всемилостивейше повелеть соизволил: ту залу сей библиотеки, в коей помещается учрежденное, по мысли его, собрание всего напечатанного о России на иностранных языках, именовать залою барона Корфа». Таким образом делу истинно монументальному был поставлен исторический памятник еще при жизни самого созидателя этого дела. Вознаграждение было великое, всенародное, грандиозное.
После того бывшие сотрудники барона Корфа ходатайствовали о разрешении им поставить в этой самой зале, на свой счет, портрет его во весь рост; это разрешение было им дано, и таким образом портрет бывшего директора библиотеки будет навеки присутствовать среди всех исторических свидетельств и сказаний о России, снесенных сюда по его мысли из всех краев света и из глубины долгих столетий.
Следующие 10 лет жизни барона Корфа прошли среди трудов в качестве главноуправляющего II отделением Собственной его величества канцелярии (от 6 декабря 1861 года по 27 февраля 1864 года) и представителя департамента законов в Государственном Совете (от 27 февраля 1864 года по 1 января 1872 года). По самому существу этих государственных учреждений, барон Корф не имел уже такого обширного, как прежде, поприща для личной, непосредственной инициативы, но тем не менее и здесь выказал, по мере возможности, высокий, неутомимый почин. С самого же вступления своего в управление II отделением он учредил в нем «Общее присутствие», нечто вроде Совета министра, ставшее вскоре, по его указаниям, одним из примечательнейших и полезнейших совещательных собраний этого рода. Сверх того, следует упомянуть о возникшем по мысли и почину барона Корфа вопросе об отделении в нашем кодексе законов от административных распоряжений, чем он и придал нашему «Своду» рациональность и простоту. В течение настоящего царствования барон Корф был призван, как и в предыдущее, по воле государя императора, ознакомить членов императорской фамилии с начальными основаниями теории права и русского законодательства: в 1859 году — наследника цесаревича великого князя Николая Александровича, перед наступлением его совершеннолетия, а в течение времени от 1864 по 1870 год — великих князей: Александра Александровича (ныне наследника цесаревича), Владимира Александровича, Алексея Александровича и Николая Константиновича.
Мне остается теперь сказать про труды барона Корфа как писателя.
Я уже говорил выше, что, еще сидя на лицейских скамьях, он задумал оригинальное, новое дело: собрать сведения о всех сочинениях, писанных о России на иностранных языках. Это дело в то время не состоялось, но через три года после выпуска из лицея барон Корф задумал еще другое дело, совершенно в России новое и до тех пор еще никем у нас не затронутое. Он составил и напечатал в 1820 году первую книгу о русской стенографии. Заглавие этой книги — нынче величайшей библиографической редкости — следующее: «Графодромия, или искусство скорописи, сочинение Астье, переделанное и примененное к русскому языку бароном Модестом Корфом». Вслед за заглавием напечатано такое посвящение: «Императорскому Царскосельскому лицею посвящено признательным воспитанником». По словам князя В. Ф. Одоевского, впервые сообщившего известие об этом сочинении, из Астье барон Корф заимствовал лишь общность системы — большая часть книги содержит в себе совершенно самостоятельное применение к русскому языку и немало практических заметок, почерпнутых из основных свойств русского языка, нигде прежде не замеченных.
Вслед за тем идет у барона Корфа ряд работ исторического и биографического содержания. К ним он имел особенную симпатию и способность. Первою из них была биография славного его предка, барона Иоганна Альбрехта Корфа, напечатанная им в 1847 году на русском языке в издании «Recueil des actes de la seance publique de l’Academie Imperiale des Sciences de S.Petersburg tenue le 11 Janvier 1847». Превосходное это жизнеописание, составленное на основании множества печатных и рукописных источников, а также фамильных записок, живо обрисовывает личность замечательного государственного и общественного деятеля XVIII века, и с такою полнотою, что впоследствии академику Пекарскому осталось лишь очень немногими новыми чертами дополнить эту биографию в его истории нашей Академии наук.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.
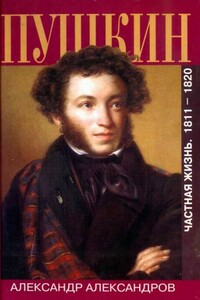
В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования.
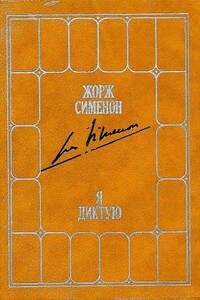
В сборник вошли избранные страницы устных мемуаров Жоржа Сименона (р. 1903 г.). Печатается по изданию Пресс де ла Сите, 1975–1981. Книга познакомит читателя с почти неизвестными у нас сторонами мастерства Сименона, блестящего рассказчика и яркого публициста.
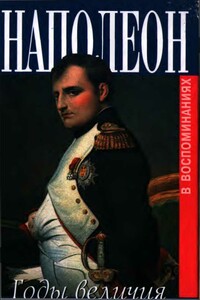
Первое издание на русском языке воспоминаний секретаря Наполеона Клода-Франсуа де Меневаля (Cloude-Francois de Meneval (1778–1850)) и камердинера Констана Вери (Constant Wairy (1778–1845)). Контаминацию текстов подготовил американский историк П. П. Джоунз, член Наполеоновского общества.
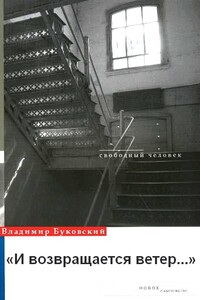
Автобиографическая книга знаменитого диссидента Владимира Буковского «И возвращается ветер…», переведенная на десятки языков, посвящена опыту сопротивления советскому тоталитаризму. В этом авантюрном романе с лирическими отступлениями рассказывается о двенадцати годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объединениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника Маяковскому и демонстрациях в защиту осужденных, о слежке и конспирации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве, — о том, как быть свободным человеком в несвободной стране. Ученый, писатель и общественный деятель Владимир Буковский провел в спецбольницах, тюрьмах и лагерях больше десяти лет.