Западный канон - [9]
Но прочных оснований для такого допущения нет. Правильнее будет трактовать жанровые сдвиги попросту в терминах эстетического выбора.
Отчасти руководствуясь мыслью Фаулера, я бы утверждал, что эстетический выбор всегда направлял весь процесс формирования светского канона, но сейчас, когда защита литературного канона, как и наступление на него, так сильно политизировалась, с таким утверждением выступать нелегко. Идеологические аргументы в защиту Западного канона вредят эстетическим ценностям не меньше, чем натиски нападающих, стремящихся уничтожить Канон — или, как они провозглашают, «вскрыть» его[36]. Для Западного канона нет ничего важнее принципов избирательности, в которых от элитизма — лишь то, что они базируются на строго художественных критериях. Те, кто противостоит Канону, настаивают, что в формировании канона всегда задействована идеология; собственно, они идут еще дальше и говорят об идеологии формирования канона, подразумевая тем самым, что создание канона (или упрочение его) — действие само по себе идеологическое.
Герой этих антиканонизаторов — Антонио Грамши, который в своих «Тюремных тетрадях» говорит, что интеллигент не может быть свободен от господствующей социальной группы, если полагается лишь на «особые качества», присущие ему и его собратьям по ремеслу (например, другим литературоведам): «Так как эти различные категории традиционной интеллигенции, объединенные „корпоративным духом“, чувствуют свою непрерывную историческую преемственность и свои „особые качества“, то они и считают себя самостоятельными и не зависимыми от господствующей социальной группы»[37].
Как литературоведу, живущему в наихудшие, как я теперь думаю, для литературоведения времена, мне упрек Грамши состоятельным не кажется. Профессиональный корпоративный дух, столь загадочно милый сердцу многих верховных жрецов антиканонизаторов, мне решительно неинтересен, и я отрекся бы от всякой «непрерывной исторической преемственности» с западным академическим миром. Я желаю — и заявляю о — преемственности с горсткой литературоведов, живших до этого века, и еще с одной — из трех минувших поколений. Что же касается «особых качеств», то мои, вопреки словам Грамши, чисто индивидуальны. Даже если «господствующей социальной группой» считать Йельскую корпорацию, или попечителей Нью-Йоркского университета или американских университетов в целом, то я не могу отыскать внутренней связи между какой бы то ни было социальной группой и тем, как я прожил жизнь, читая, вспоминая, оценивая и истолковывая то, что мы когда-то называли «художественной литературой». Литературоведов на службе общественной идеологии следует искать исключительно среди тех, кто хочет разоблачить или «вскрыть» Канон, а также среди их противников, не уберегшихся от превращения в то, что они наблюдали[38]. Но ни одна из этих групп не является по-настоящему литературной.
Вытеснение эстетики или бегство от нее — повсеместное явление в наших заведениях, все еще выдающих себя за высшие учебные. Шекспир, чье эстетическое первенство было подтверждено всеобщим судом четырех столетий, теперь «историзируется» до умаления — как раз потому, что его диковинная эстетическая сила скандализирует любого идеолога. Основополагающий принцип Школы ресентимента укладывается в самую бесхитростную формулировку: то, что называется эстетической ценностью, происходит из классовой борьбы. Принцип этот настолько общий, что целиком его опровергнуть нельзя. Я лично настаиваю на том, что единственное средство и главный критерий постижения эстетической ценности — это индивидуальная личность. Но я с неохотой признаю, что «индивидуальная личность» определяется лишь на фоне общества и доля ее борьбы с коллективным неизбежно вбирает в себя что-то от конфликта социальных и экономических классов. Мне, сыну портного, было предоставлено неограниченное время на чтение и размышление о прочитанном. Совершенно очевидно, что институция, которая меня протежировала, Йельский университет, есть часть Американского истеблишмента, следовательно, мои протяженные размышления о литературе уязвимы для традиционнейшего марксистского анализа классового интереса. Все свои страстные заявления об отдельной личности и эстетической ценности я обязательно делю мысленно на то обстоятельство, что досуг для размышлений должен быть куплен у общества.
Ни один литературовед (пишущий эти строки — не исключение) не есть герметический Просперо, практикующий белую магию на зачарованном острове. Литературоведение, подобно поэзии, — это (в герметическом смысле) своего рода кража обыкновенных акций. И если в дни моей молодости правящий класс делал человека жрецом эстетики, освобождая его тем самым от каких-то других обязательств, то он, безусловно, был в этом жречестве заинтересован. Но то, что я это признаю, не значит, что я признаю свою неправоту. Может быть, свобода постигать эстетическую ценность и берется из классового конфликта, но ценность не тождественна свободе, хотя и недоступна без этого постижения. Эстетическая ценность по определению возникает из взаимодействия между художниками, из влияния, которое всегда — истолкование. Свобода быть художником или исследователем непременно проистекает из социального конфликта. Но источник, происхождение свободы воспринимать, хотя и имеют к эстетической ценности известное касательство, ей не тождественны. Обретение индивидуальности всегда вызывает чувство вины; это разновидность чувства вины, которое испытывает переживший кого-то, и эстетической ценности оно не производит.
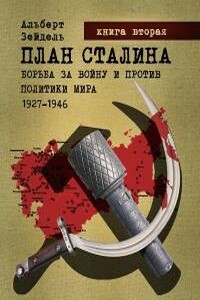
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
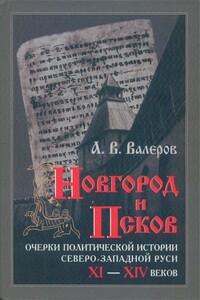
В монографии освещаются ключевые моменты социально-политического развития Пскова XI–XIV вв. в контексте его взаимоотношений с Новгородской республикой. В первой части исследования автор рассматривает историю псковского летописания и реконструирует начальный псковский свод 50-х годов XIV в., в во второй и третьей частях на основании изученной источниковой базы анализирует социально-политические процессы в средневековом Пскове. По многим спорным и малоизученным вопросам Северо-Западной Руси предложена оригинальная трактовка фактов и событий.
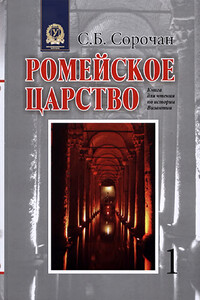
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.

"Предлагаемый вниманию читателей очерк имеет целью представить в связной форме свод важнейших данных по истории Крыма в последовательности событий от того далекого начала, с какого идут исторические свидетельства о жизни этой части нашего великого отечества. Свет истории озарил этот край на целое тысячелетие раньше, чем забрезжили его первые лучи для древнейших центров нашей государственности. Связь Крыма с античным миром и великой эллинской культурой составляет особенную прелесть истории этой земли и своим последствием имеет нахождение в его почве неисчерпаемых археологических богатств, разработка которых является важной задачей русской науки.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.
