Западный канон - [7]
Меня больше интересует бегство от эстетики столь многочисленных представителей моей профессии, часть которых хотя бы поначалу умели прочувствовать эстетическую ценность. У Фрейда бегство — это метафора вытеснения[29], бессознательного, но целенаправленного забывания. В случае моей профессии цель бегства, в общем, понятна: смягчить смещенное на эстетику чувство вины. Когда дело касается эстетики, забывание губительно: в соответствующих исследованиях познание всегда зависит от памяти. Лонгин сказал бы, что удовольствие есть то, что люди ресентимента забыли. Ницше назвал бы его болью[30]; но они имели бы в виду один и тот же горний опыт. Те же, кто обрушивается — на манер леммингов — с этих высот, причитают, будто литературу вернее всего трактовать как мистификацию, насажденную буржуазными институциями.
Эстетика таким образом сводится к идеологии, в лучшем случае — к метафизике. Стихотворение нельзя читать как стихотворение у потому что оно в первую очередь есть социальный документ или — редко, но случается — попытка совладать с философией. Этому подходу я призываю упорно сопротивляться — с одной-единственной целью: сохранить поэзию во всей возможной полноте и чистоте. Изменившие нам легионы представляют те направления в наших традициях, которые всегда бежали эстетики: платонический морализм и аристотелианскую социологию. Те, кто нападает на поэзию, либо гонят ее прочь из общества за то, что она подрывает его благополучие, либо готовы терпеть ее, если она будет служить делу социального катарсиса под знаменами нового мультикультурализма. Под поверхностью академического марксизма, феминизма и «нового историзма» по-прежнему протекает древняя полемика между платонизмом и столь же архаичной аристотелианской социальной медициной. Я думаю, что раздор между сторонниками этих подходов и извечно находящимися в тяжком положении поборниками эстетики не прекратится никогда. Нынче мы проигрываем, будем, несомненно, проигрывать и впредь, и это прискорбно, потому что многие из лучших учеников оставят нас ради других дисциплин и профессий и уже вовсю оставляют. Они имеют на это полное право, потому что мы не сумели оградить их от утраты интеллектуальных и эстетических стандартов успеха и ценности, которую понесла наша профессия. Единственное, что мы можем, — это по мере сил держаться эстетики и не поддаваться на ложь, гласящую, что мы противостоим дерзанию и новым истолкованиям.
По известному определению Фрейда, тревога — это Angst vor etwas, или тревожные ожидания[31]. Нас всегда что-то загодя тревожит, пусть это «что-то» — не более чем ожидания, соответствовать которым от нас потребуется. Эрос — вероятно, самое приятное ожидание — приносит рефлексивному сознанию специфические тревоги, на которых Фрейд и сосредоточен. Литературное произведение также порождает ожидания, которым должно соответствовать, — иначе его перестанут читать. Глубочайшие тревоги литературы — литературны; они, как мне кажется, определяют собою «литературное» и делаются чуть ли не тождественны ему. Стихотворение, роман, пьеса приобретают все свойственные человечеству расстройства, в том числе страх смерти, который в литературном искусстве преобразуется в поиск каноничности, запечатления в коллективной или общественной памяти. Это навязчивое желание, или влечение, проглядывает в сильнейших сонетах самого Шекспира. Поэтика бессмертия — это также психология выживания и космология.
Откуда возникла сама идея — задумать такое литературное произведение, которому мир не даст умереть? Иудеи не прилагали ее к Писанию, полагая, что канонические сочинения пачкают руки тех, кто к ним прикасается (видимо, оттого что смертные руки не могут держать священных сочинений). Христианам Тору заменил Иисус, а Иисус — это прежде всего Воскресение. Когда в истории светской словесности люди заговорили о «бессмертных» стихотворениях и повествованиях? Эта находка есть у Петрарки, и ее великолепно развивает в своих сонетах Шекспир. В скрытом виде она присутствует уже в хвале, которую Данте произносит своей «Божественной комедии». Нельзя сказать, что Данте обмирщил эту идею, потому что он все вобрал в себя и, соответственно, в каком-то смысле ничего не обмирщил. Для него его поэма была пророчеством, таким же пророчеством, как книга пророка Исайи, так что, наверное, можно сказать, что Данте создал наше современное представление о каноническом. Выдающийся специалист по Средневековью Эрнст Роберт Курциус особо отмечает, что Данте признавал лишь два путешествия в потусторонний мир, кроме своего собственного: Энея у Вергилия в VI книге его эпической поэмы и апостола Павла, описанного во 2 послании коринфянам (12:2). Благодаря Энею возник Рим; благодаря Павлу возникло христианство; благодаря Данте — если бы он дожил до восьмидесяти одного года — должно было сбыться скрытое в «Комедии» эзотерическое пророчество, но Данте умер в пятьдесят шесть лет.
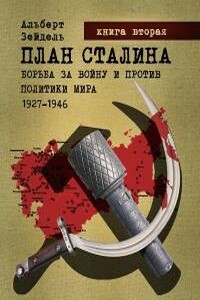
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
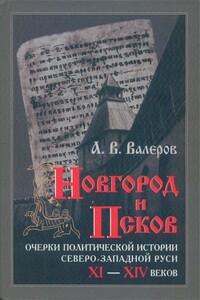
В монографии освещаются ключевые моменты социально-политического развития Пскова XI–XIV вв. в контексте его взаимоотношений с Новгородской республикой. В первой части исследования автор рассматривает историю псковского летописания и реконструирует начальный псковский свод 50-х годов XIV в., в во второй и третьей частях на основании изученной источниковой базы анализирует социально-политические процессы в средневековом Пскове. По многим спорным и малоизученным вопросам Северо-Западной Руси предложена оригинальная трактовка фактов и событий.
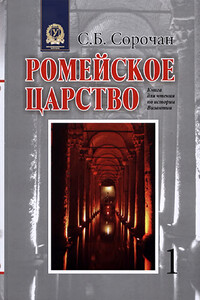
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.

"Предлагаемый вниманию читателей очерк имеет целью представить в связной форме свод важнейших данных по истории Крыма в последовательности событий от того далекого начала, с какого идут исторические свидетельства о жизни этой части нашего великого отечества. Свет истории озарил этот край на целое тысячелетие раньше, чем забрезжили его первые лучи для древнейших центров нашей государственности. Связь Крыма с античным миром и великой эллинской культурой составляет особенную прелесть истории этой земли и своим последствием имеет нахождение в его почве неисчерпаемых археологических богатств, разработка которых является важной задачей русской науки.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.
