Западный канон - [65]
У. Г. Мур, который наряду с Жаком Гишарно кажется мне самым дельным исследователем Мольера, предлагает сосредоточиться не на анализе Альцеста, а на структуре пьесы — иными словами, тоже дает понять, что комическое в ней первично по отношению к сатирическому:
…освещается нечто куда большее, чем характер Альцеста; освещается проблема, проблема бытования принципов в жестоком мире. Превращать эту великую пьесу в исследование характера— значит преуменьшать масштаб описанной в ней драмы. Вопрос о природе искренности — сюда относятся и тщеславие, и мода, и злой умысел, и светские условности — это целый комплекс вопросов, обуславливающий строй и структуру пьесы.
И все же Мур также видит, как невероятно сложен на самом деле Альцест, шут этой пьесы и в то же время ее Гамлет, образ, который мы никогда не постигнем до конца:
Альцест смешон (в хорошем смысле слова) не потому, что упрекает современное ему общество в неискренности. Он потому антисоциален, что на принципиальных основаниях призывает других поступать так, как выгодно ему. <…> Альцест — это символ чего-то гораздо более интересного и сложного.
Чтобы яснее представить себе диапазон и глубину психологизма Мольера, стоит присмотреться к этому неуловимому явлению. Его можно назвать неразличением общего и частного. Человеку свойственно оправдывать свои поступки, апеллируя к некоей внешней норме. С другой стороны, мы зачастую не замечаем, до какой степени наша приверженность такой общей норме является следствием нашего своекорыстия и тщеславия. <…> Альцест, сам того не зная, жаждал признания, предпочтения, отличия. <…> Развивая тему влюбленного мизантропа, Мольер в избытке своих творческих сил дал очертания образа, выходящего далеко за пределы авторского замысла и сопоставимого с Гамлетом по количеству связанных с ним смыслов из личностной, социальной, этической, политической, даже богословской сфер.
Но разве все мы не смешиваем общее с частным? И разве Мольер, актер и драматург, не жаждал признания, предпочтения, отличия? Даже Мур совершает эту ошибку, обвиняет Альцеста с морализаторской позиции. Сам Мольер этой ошибки не допускает. Рамон Фернандес пишет, что «Альцест — это Мольер, утративший чувство комического». Фернандес же указывает на то, что беда Альцеста — крайности: он слишком добродетелен, слишком разумен, слишком силен, слишком воинственно отстаивает истину, даже слишком остроумен для всех вокруг. Альцест противоположен своему поэту: как человек театра, Мольер не занимал никакого особого положения, даже не имел права на пристойные похороны. Как придворный Людовика XIV, своего защитника и патрона, Мольер был вынужден утаивать, маскировать свои подлинные воззрения и все время намекать на что-то, чего не мог высказать.
Играя роль Альцеста, Мольер, весьма профессиональный директор труппы, должен был отметить странность ситуации: три женские роли в этой пьесе исполняли его жена, с которой они практически разошлись, его любовница и актриса, упорно не желавшая уступить его притязаниям. Отношения между Альцестом и Мольером приводят в недоумение и должны настроить нас на опасливое отношение к исследователям-моралистам. Меня удивляет, что литературоведы и критики не любят Альцеста (так, как люблю его я), — ведь он так точно выражает ядовитые мысли всякого, кто ежедневно утопает в дурных стихах:
На мой взгляд, Альцеста можно упрекнуть лишь в одном — в любовной неудаче с очаровательной и загадочной Селименой, но сатирики традиционно избегают брака. И даже тут я не могу не защищать Альцеста от исследователей-моралистов, соотносящих его с Дон Жуаном на том основании, что и Альцест, и Дон Жуан делают себя высшим судом во всех сферах, включая чувственную. Подчас у меня возникает подозрение, что современные исследователи творчества Мольера соединяют его в одно целое с Расином, что не менее странно, чем сплавлять Монтеня с Паскалем. Так, Мартин Тёрнелл в своей книге «Классический момент» приравнивает Мольера к его веку, который превращается в Век Расина — и вот уже «Мизантроп» оказывается пьесой, главный герой которой пребывает в состоянии перманентной истерики. Квинтэссенция редукционизма морализаторского литературоведения — в возмущенных словах Тёрнелла: «Бессмысленно делать вид, что порядок восстановлен и разум поставленного на свое место шута вернулся в норму». «В какую еще норму?» — взорвался бы Альцест, и разумный зритель или читатель поддержал бы его. От величия «Мизантропа» не осталось бы и следа, будь общество разумно, а Альцест — единственный — безумен. Если мы хотим спасти Альцеста от исследователей, то вся наша надежда на Монтеня.
Мы привыкли видеть в Гамлете черты подобного Монте-ню скептика, но Гамлета-шута исследователи нам пока что не преподносили. Смотреть, как Гамлета играет актер, который не может (и не должен) прикасаться к возвышенному, — ужасный опыт, но эту роль, как правило, дают актерам сильным и разносторонним. Смотреть, как негодный актер делает из Альцеста самообольщенного дурака, — фантастически дурной театральный опыт. Морализаторские припадки исследователей причинили этой пьесе настоящий вред, во всяком случае в англоговорящих странах. Альцест требует великого актера — такого, каким, видимо, был Мольер, когда впервые блеснул в этой роли. Традиционно считается, что в постановке и в исполнении Мольера Альцест представал чем-то гораздо большим, чем губящий самого себя шут. Для такого дела нужны режиссер и актер, способные вообразить сатирика-моралиста, который, не теряя силы и достоинства, делается жертвой — но не мстительного общества, а духа комедии.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.
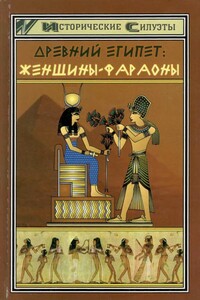
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.
