Западный канон - [42]
Наш стиль, увы, стремительно меняется: в университетах взрываются начиненные взрывчаткой бандероли, в Нью-Йорке устраивают теракты исламские фундаменталисты, а прямо сейчас, когда я пишу эти строки, в Нью-Хейвене раздаются выстрелы. Ховард пишет, что Чосер жил во время войн, чумы и мятежей — не сказать, чтобы в нынешней Америке все это было чем-то немыслимым; сам Ховард умер от чумы наших дней перед самым выходом в свет его книги. Но основная его мысль безупречна: Чосерова эпоха не была спокойной, его сограждане не были мирными и его кентерберийским паломникам было о чем молить Бога, достигнув усыпальницы Томаса Бекета[136]. Личность Чосера-человека, не только иронически изображенного Чосера-пилигрима, оставила глубокий след на всех его сочинениях. Как и у его прямых предшественников, Данте и Боккаччо, его огромная самобытность сильнее всего проявилась в персонажах и его собственном «голосе», в том, как он владел интонацией и образностью. Подобно Данте, он изобрел новые способы изображения личности, и он почти так же относится к Шекспиру, как Данте к Петрарке; разница — в невероятной плодовитости Шекспира: она превосходит даже то, что имел в виду Драйден, сказавший о «Кентерберийских рассказах»: «Вот Божье изобилье». Ни один писатель — ни Овидий, ни «английский Овидий» Кристофер Марло — не повлиял на Шекспира так основательно, как Чосер. Самое самобытное у Шекспира, то, как он изображает человеческую личность, начинается с Чосеровых подсказок — с того, что у Чосера намечено, но отнюдь не развито полностью. Но прежде чем мы в общих чертах покажем наследие Чосерова величия у Шекспира, нам следует подчеркнуть и продемонстрировать это величие.
Из всех, кто писал о Чосере, я больше всего люблю Г. К. Честертона, отметившего, что «ирония Чосера подчас столь велика, что ее даже не разглядеть», и подробно рассуждавшего о главном в этой иронии:
В ней есть некий намек на колоссальные и бездонные идеи, соединенные с самой природой созидания и действительности. В ней есть нечто от философского представления о феноменальном мире, от всего того, что подразумевали мудрецы, вовсе не пессимисты, говорившие, что мы пребываем в мире теней… В ней есть вся тайна отношения создателя к своим созданиям.
В своей обычной парадоксальной манере Честертон возводит Чосеров необыкновенный реализм и его психологическую проницательность к ироническому сознанию утраченного времени, вящей действительности, канувшей в небытие и обрекшей тех, кто ее пережил, на печаль и тоску по ней. Доброжелательство у Чосера существует, но оно всегда уязвимо, и примеры отпадения от рыцарственного великодушия встречаются на каждом шагу. Поглощенность исчезнувшим миром рыцарских романов Честертон перенял у Чосера; это подтверждает Дональд Ховард, назвавший эту поглощенность системообразующей «идеей» «Кентерберийских рассказов». Они являют нам «картину разлаженного христианского общества — отживающего свое, пришедшего в упадок, пребывающего в сомнениях; мы не знаем, к чему оно идет». Написать такую картину мог только иронист.
В своей книге Ховард обнаруживает источник Чосеровой отчужденности, или амбивалентности, в резком контрасте между буржуазным воспитанием и аристократическим образованием, которое впоследствии получил юный поэт-придворный. Данте открыл Аристократическую эпоху в литературе — при всей его прочной связи с эпохой Теократической. Но Чосер, в отличие от Данте, не принадлежал даже к мелкому дворянству. Я с неизменным подозрением отношусь к попыткам социального объяснения иронической установки великого поэта, чьи темперамент и кураж противодействуют всякой обусловленности. Сознание Чосера объемлет так много, его ирония проникает так глубоко и она так индивидуальна, что одни внешние обстоятельства едва ли могли играть здесь главную роль. Английским предшественником Чосера был его друг, поэт Джон Гауэр — двенадцатью годами старше и заметно проигрывавший в сравнении со встававшим на ноги сочинителем. По-английски Чосер говорил с детства, но он также говорил на англо-французском (бывшем нормандском), а обучаясь при дворе, научился говорить, читать и писать на парижском французском и итальянском языках.
Рано почувствовав, что достаточно сильных англоязычных предшественников у него нет, он сначала обратился к своему старшему современнику Гийому де Машо, первостепенному французскому поэту (и композитору). Но после того как этот ранний этап увенчался замечательной элегией «Книга о королеве», Чосер отправился с поручением короля в Италию и в феврале 1373 года оказался в предвозрожденческой Флоренции, прощавшейся тогда с великой эпохой своей литературы. Изгнанный Данте умер более полувека назад, а его преемники в следующем поколении, Петрарка и Боккаччо, были стары; в течение двух лет оба скончались. Поэта силы и масштаба Чосера эти сочинители — точнее, двое из них, Данте и Боккаччо — неминуемо должны были вдохновить и, как следствие, ввергнуть в тревогу. Петрарка имел для Чосера некоторое значение как знаковая фигура, но едва ли как собственно сочинитель. В тридцать лет поэт Чосер знал, чего хочет, и у Петрарки от этого не было ничего, а у Данте — самая малость. Первоначалом, в котором нуждался Чосер, стал для него Боккаччо, нигде у Чосера не упоминающийся.
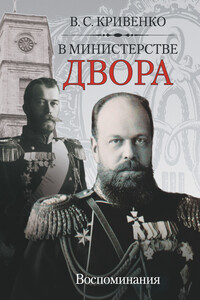
«Последние полтора десятка лет ознаменовались небывалой по своему масштабу публикацией мемуаров, отражающих историю России XIX — начала XX в. Среди их авторов появляются и незаслуженно забытые деятели, имена которых мало что скажут современному, даже вполне осведомленному читателю. К числу таких деятелей можно отнести и Василия Силовича Кривенко, чье мемуарное наследие представлено в полном объеме впервые только в данном издании. Большое научное значение наследия В. С. Кривенко определяется несколькими обстоятельствами…».

"Когда-то великий князь Константин Павлович произнёс парадоксальную, но верную фразу — «Война портит армию». Перефразируя её можно сказать, что история портит историков. Действительно, откровенная ангажированность и политический заказ, которому спешат следовать некоторые служители музы Клио, никак не способствует установлению исторической истины. Совсем недавно в Киеве с непонятным энтузиазмом была отмечена в общем-то малозаметная дата 100-летия участия украинских войск в германской оккупации Крыма в 1918 г.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.
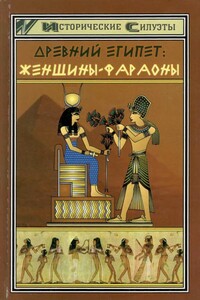
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.
