Захолустье - [8]
Постройки в деревне все были ветхие, за исключением одного дома-пятистенка и двухэтажного дома на середине деревни, принадлежавшего лесному объездчику по прозвищу Ромаха, который держал всю деревню как в тисках. Бревна возили из лесу украдкой, хозяева всю жизнь строили или ремонтировали свои дома, да так и не достраивали, так как при скоплении семьи была страсть на большой дом, как для жилья, так и для удобства скоту с большой поветью для хранения сена. Нижний этаж в две просторных избы с глинобитной печью-пекаркой, с полатями для спанья, лавицами, полицами и грядками, с маленькими окнами с подслеповатыми рамами-четырехлистками, закрываемыми снаружи на ночь деревянными ставнями - кое-как, с трудом доделывали и жили. А вот второй, верхний, этаж в большинстве своем пустовал, выглядел слепым или кривым, то есть одна изба (горница) отделывалась, окосячивались окна и вставлялись рамы, а у второй даже не вырезали проемы для окон.
Жители деревни были все очень трудолюбивы, религиозны, малограмотны или совсем неграмотные, особенно женщины, у которых зимой и летом всегда было много всякой работы, особенно по обработке льна, пряжи и тканью домашнего холста на одежду семьи.
Лучшими участками первого грунта пользовались более крепкие семейные хозяйства, державшие рогатый скот, лошадей, имевшие лишние рабочие руки и лучше удобрявшие землю. Передел и поравнение земельных участков в обществе по постановлению сельского схода всех домохозяев проводился через 10-12 лет. Вследствие чего прибылые едоки в хозяйствах несколько лет надела не имели, а выбывшие (умершие) пользовались землей до передела. При переделе земли каждый хозяин, имевший излишки, стремился удержать за собой лучшие участки (полосы), отдавал похуже в разных полях, отрезая от своих полос хозяйствам, получающим наделы на прибылых едоков. Передел земли не проходил без драк и мордобоя, заправилами были крикуны, имевшие излишки земли, а получающая землю в большинстве своем многодетная беднота была довольна и тем, что получила землю, хотя и в разных полях, и небольшими клочками. Пахали землю деревянными сохами (едомками) с одним ральником (лемехом), набитым на вытесанную корневую березовую корягу. Боронили землю бороной с деревянными зубьями, скрепленными в решетке свитой березовой вицей. В 1910 году появились более удобные для пашни, легкие вятские сохи со стальным лемехом и резцом для разреза жнивья и деревянные бороны с железными зубьями. У зажиточных хозяев появились дрожки на железном ходу, выездные тарантасы с расписными задками, а для зимних поездок в праздники - вятские кошевки со стальными подполозками. Корпус кошевок окрашивался в большинстве темно-коричневой краской, а спинка разрисовывалась разными цветами или вместо них верх обивался цветной материей. Для перевозки грузов в зимнее время использовались сани-розвальни с изогнутыми по бокам отводами. В весеннее и летнее время для перевозок у крестьян были в основном дрожки на четырех колесах и телеги на двух деревянных осях. Орудия производства: лопаты, грабли, вилы для скирдования сена на лугу были деревянные, только навозные вилы, топоры, косы-горбуши и серпы были железные. Обмолачивали хлеб деревянными молотилами и горбатыми кичигами, а хлеб в снопах сушили в овинах, зажигая костер дров под овином с наложенными в него снопами. Лен сушили в банях, а высушенные снопы мяли вручную деревянными мялками женщины, потом кост «р» ицу обивали трепалами, а после этого лен чесали на железных щетях (досках с вбитыми в них гвоздями) и ручными щетками, сделанными из пучка свиной щетины.
Родился я в большой семье крестьянина-середняка. У родителей был единственным сыном, и поскольку общая наша семья была большая, с трехлетнего возраста больше жил у дедушки и бабушки (родителей матери) в деревне Астафьевской, по прозвищу Шашовы, что ниже нашей деревни по тракту в двух верстах.
У дедушки и бабушки семья была небольшая: находилась при них одна дочь, уже взрослая (сестра моей матери), поэтому я для них был не помехой, а только развлечением. У дедушки дом стоял у самого тракта, хотя большой, в четыре избы, и ветхий, но жить в нем зимой и летом было хорошо. Дом был на два хозяйства. В правом, восточном, боку жил дедушка с семьей, а в левом - его дядя (мой крестный) с хозяйкой. Дедушка свою половину дома содержал в порядке, ремонтировал, а его дядя ничего не делал, так что его половина дома выглядела убого. Четыре жителя деревни жили на крепостной - частновладельческой - земле, в том числе и мой дедушка пользовался четвертой частью земли и сенокоса, подаренной ему как примаку и внуку по наследству своим дедушкой, у которого он с малых лет воспитывался. Дедушка держал хорошую лошадь, две коровы да пару овец. Земля, которую он обрабатывал своим трудом, вся была рядом с деревней, но убирать урожай хлеба и сена не хватало своих рабочих рук, приходилось отдавать сжинать часть посевов хлеба за хлеб, а скос травы и уборку сена за одну третью часть сена. В зимнее время, когда я начинал скучать о родителях, то моя тетя (сестра матери) садила меня на санки и тащила домой, а как наступала весна, разливалась река Северная Двина, и водой затопляло весь луг шириной 7-8 километров, я уже опять жил у дедушки и бабушки, так как у них жить в это время было очень красиво и весело: вода подходила под окна к проезжему тракту, затопляя выгороженные из поскотины телятники. У дедушки была небольшая лодка, и я любил целые дни ездить в ней в огороженном телятнике вплоть до полного спада воды. Так я жил весной и летом у дедушки до семилетнего возраста, пока не умер мой отец.
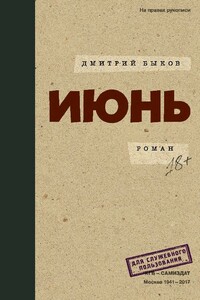
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…
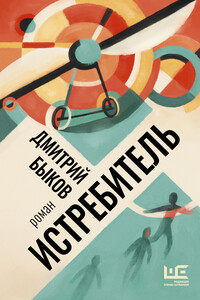
«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».
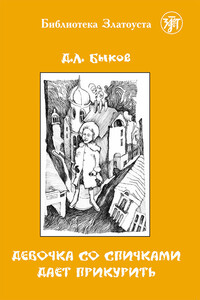
Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.
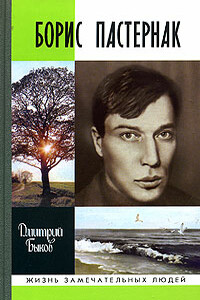
Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.
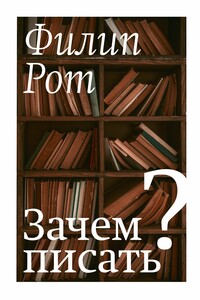
Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
