Заговоры, как вид русской народной поэзии - [3]
30
иметь причину; но пусть только вас кто-нибудь спросит, почему вы остановились на этом явлении – вы, вероятно, ответите ему, как сказаить, частью аксиомы: ведь должна же была быть какая-нибудь причина. Собственно, это будет вывод из аксиомы, сделанный бессознательно: всякое явление должно иметь причину; это есть явление; следовательно – и оно должно иметь причину.
Возвращаясь к аксиоме сходства причины со следствием, мы должны заметить, что и она подходит под указанную уже общую формулу заключений первобытного ума – и она есть преждевременное обобщение. В природе, действительно, весьма много случаев сходства причины и следствия; так много, что для первобытного ума это сходство стало неопровержимой аксиомой. Мало того – она долго господствовала в философии и имела таких защитников, как Лейбниц, Спиноза, Кузен, Кольридж. Тем не менее это только заблуждение, блистательным опровержением которого есть напр. вся химия.
Трудно объяснить происхождение другой аксиомы первобытного ума, которую можно формулировать так: действие на часть предмета (или на вещь, рассматриваемую как его часть) есть действие на самый предмет. Действуя на волосы, ногти, одежду и т. п. человека, можно действовать на самого человека. Что привело первобытный ум к такому заключению? Разве то, что предмет со всеми своими принадлежностями казался ему чем-то гораздо более цельным, чем нам; он не умел его анализировать, не умел отделить то, что составляет самый предмет от того, что можно признать только его принадлежностями. Во всяком случае мы можем констатировать самый факт: аксиома эта существует у совершенно чуждых друг другу народов. Она сказалась и в приведенном выше поверии: гниение продетого через голову жабы волоса должно повлечь за собой смерть его обладателя.
Таких общих предложений, которые первобытный ум считал за аксиомы, весьма много; но что для неразвитого ума ясно само по себе и не требует доказательств, то для более осторожного, развитого не только не имеет силы аксиомы (1-ая аксиома), но часто даже перестает быть истиной (2-ая аксиома). Таким образом, те логические основания, которые составляют последнюю инстанцию человеческого ума при понимании явлений, их связи, словом – всего существующего, не неподвижны, а различны для различных эпох жизни человечества; вся их сила основывается лишь на непоколебимой вере в них мыслящего
31
субъекта и потому мы совершенно вправе назвать их интеллектуальными верованиями, наравне с верованиями религиозными.
О других особенностях первобытного мышления придется сказать еще несколько слов при замечаниях о первобытном языке.
Таким образом, отличие произведений народных от литературных со стороны логической обусловливается особенностями первобытного мышления.
Мы видели хоть отчасти те логические орудия, которыми обладал младенческий ум, видели и примеры тех логических принципов, из которых он выходил при своем мышлении. Но отличие народных произведений обусловливается положительными знаниями первобытного человека. Наблюдая и размышляя, он вырабатывает себе отрывочные сведения о самом себе и предметах мира внешнего.
Как в первобытном языке для обозначения одного предмета возникает множество слов, из которых каждое есть название предмета, по одному известному его признаку, поразившему почему-нибудь человека, так точно в первобытном миросозерцании возникает множество представлений об одном и том же явлении, из которых каждое есть выражение той или другой стороны явления, обратившей на себя почему-нибудь особенное внимание наблюдателя.
Между словами, означающими один и тот же предмет, начинается процесс элиминации, и мало-по-малу одно слово вытесняет собой другие и последние вслед за тем умирают. Такой же процесс элиминации происходит, без сомнения, и между представлениями; но представления отличаются, кажется, большей живучестью, нежели слова: они скорее уживаются друг возле друга. Но зато между ними происходит другой процесс – это процесс разнообразных комбинаций.
Об одном и том же предмете возникает одновременно множество представлений. Представления эти не только весьма многочисленны и разнообразны, но очень часто и совершенно противоположны. Так напр. явление грозы дало ряд светлых и ряд темных образов. Даже одно и то же представление об одном и том же явлении часто запечатлено двойственным характером; так, небесный змей (молния) является то существом добрым, то злым. Но с
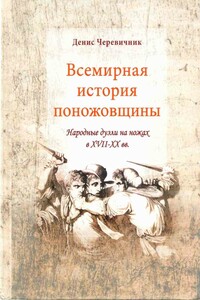
Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.
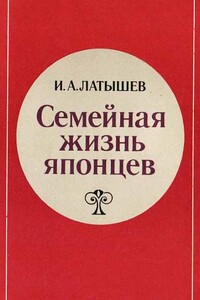
Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.
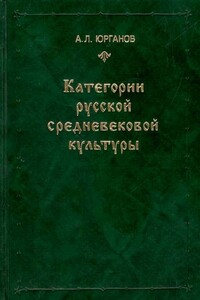
В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.