Забвение истории – одержимость историей - [11]
Ницше постоянно чествуется в качестве первого теоретика позитивного забвения. Однако защитники забвения существовали и до него. Ранее уже упоминался Ральф Уолдо Эмерсон, американский философ, которым восхищался Ницше[34]. Другим его предшественником был Монтень. Подобно тому как Ницше высмеивал антиквара, беспорядочно собирающего фрагменты прошлого без всякого внимания к критериям отбора и значимости артефактов, Мишель де Монтень критиковал педанта, демонстрируя на этом примере порочность безудержного всезнания: «Голова, забитая всякой всячиной, не становится остроумнее и живее <…> Наряду с растением, поливаемым слишком часто, или лампой, которая гаснет из-за избытка масла, ум тоже страдает от чересчур усердной учебы»[35].
Вслед за Ницше французский социолог Морис Хальбвакс поставил на новую основу вопрос о критериях отбора для памяти, введя в изучение памяти понятие «социальные рамки». Под ними подразумевался принцип отбора, который диктуется индивидууму социальной группой[36]. По мнению Хальбвакса, то, что памятуется или не памятуется, зависит от действующих правил коммуникации в социальной группе, к которой принадлежит индивидуум. Социальные рамки определяют как отношения между индивидуумом и обществом, так и динамику взаимосвязи между памятованием и забвением. Эти рамки не допускают памятования о большом количестве вещей и событий, которые тем самым не получают социального признания. Пол Коннертон говорит в этом контексте о «паттернах»: «Многие мелкие акты забвения, обуславливающие длительное забвение, происходят не случайно, а под воздействием определенных паттернов»[37]. Памятования не существуют россыпью или кучей, они рассортированы. Они сортируются посредством оппозиции присоединяемые/неприсоединяемые внутри кластеров и паттернов. Пока для истории и событий нет рамок памяти, они остаются неуслышанными. Им не уделяют внимания и не придают значения, поэтому они исчезают незамеченными и не вызвавшими интереса. Такой была судьба многих людей, переживших Холокост и тщетно пытавшихся в пятидесятых и шестидесятых годах привлечь к себе внимание европейской общественности.
Только через изменение рамок памяти общество может воспринять отторгавшееся раньше воспоминание. То же самое относится к смене научных парадигм, которые также можно считать разновидностью организованного забвения. Карл Шлёгель так описал логику забвения, обусловленного сменой научной парадигмы: «Когда подходит срок, интерпретативная монополия завершается; она переживает эрозию, ликвидируется, и ее место занимает другая, в которой не остается ни следа от прежних споров и даже целых сражений. Одна глава заканчивается, другая начинается»[38].
Категория «рамок памяти» позволяет лучше понять вопросы мемориальной политики. Здесь мы можем установить связь между Хальбваксом и Ницше, ибо национальная память обычно подчиняется чувству гордости и воспоминаниям о собственных страданиях, а вот своя вина редко получает доступ в национальную память. Мемориальная культура, сформированная гражданским обществом и базирующаяся на правах человека, обрела с девяностых годов новые транснациональные рамки памяти в виде «политики покаяния», что впервые сделало возможным публичное признание государством собственной вины и включение в национальную память своих преступлений. В этих рамках западные страны берут на себя ответственность за совершенные исторические преступления, интегрируя в национальный нарратив точку зрения жертв.
Карающее (damnatio memoriae) и репрессивное забвение
Damnatio memoriae – это форма карающего забвения путем символического уничтожения противника, подвергнутого опале. «Человек жив, пока произносится его имя»[39]. Эта древнеегипетская пословица справедлива до сих пор. Поэтому забвение, стирание имени, damnatio memoriae считается тяжелым наказанием. Такое наказание разит человека до самых глубин его личности, которая тем самым отрицается и уничтожается. Тот, чье имя вычеркивается из анналов или соскабливается с каменных монументов, символически обрекается на вторичную смерть. Но эта форма забвения содержит в себе перформативное противоречие, на которое указывает Умберто Эко, так как она вызывает повышенный интерес к человеку, который должен стать вообще недоступным для восприятия окружающими.
Если исторические архивы, являясь составным элементом открытой демократической культуры, создают возможность «сберегающего хранения», то политические архивы принципиально засекречены и служат важным инструментом упрочения власти. Диктатуры не признают прозрачности, поэтому политические архивы не открывают историкам свои документы, которые остаются недоступными для общественности даже по истечении срока секретности. Пока архивы закрыты, невозможно провести расследование исторических преступлений (например, армянского геноцида). При этом жертвы насилия оказываются лишенными права на собственную историю и память.

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

Наследие главных катастроф XX века заставляет европейские страны снова и снова пересматривать свое отношение к истории, в процессе таких ревизий решается судьба не только прошлого, но и будущего. Главный вопрос, который перед нами стоит, звучит так: «Есть ли альтернатива национальной гордости, опирающейся на чеканные образы врага и забывающей о жертвах собственной истории?» В двух новых книгах, объединенных в этом издании под одной обложкой, немецкий историк и специалист по культурной памяти Алейда Ассман тоже задается этим вопросом.
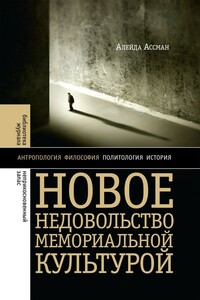
Новая книга немецкого историка и теоретика культурной памяти Алейды Ассман полемизирует с все более усиливающейся в последние годы тенденцией, ставящей под сомнение ценность той мемориальной культуры, которая начиная с 1970—1980-х годов стала доминирующим способом работы с прошлым. Поводом для этого усиливающегося «недовольства» стало превращение травматического прошлого в предмет политического и экономического торга. «Индустрия Холокоста», ожесточенная конкуренция за статус жертвы, болезненная привязанность к чувству вины – наиболее заметные проявления того, как работают современные формы культурной памяти.

В книге известного немецкого исследователя исторической памяти Алейды Ассман предпринята впечатляющая попытка обобщения теоретических дебатов о том, как складываются социальные представления о прошлом, что стоит за человеческой способностью помнить и предавать забвению, благодаря чему индивидуальное воспоминание есть не только непосредственное свидетельство о прошлом, но и симптом, отражающий культурный контекст самого вспоминающего. Материалом, который позволяет прочертить постоянно меняющиеся траектории этих теоретических дебатов, является трагическая история XX века.

Книга, которую вы держите в руках, необычная. Она позволяет посмотреть на историю одной африканской страны тремя разными взглядами. Взгляд путешественника позволит понять, с какой целью можно туда приехать и где остановиться. Взгляд историка позволит увидеть, какое прошлое было у этих мест с момента появления здесь первых государств. Взгляд местного жителя позволит понять, чем живут жители Ганы сейчас. Основанная на интервью с вождем одного из местных племен, эта небольшая книга рассказывает о небольшой стране и ее удивительном прошлом.

18+. В некоторых эссе цикла — есть обсценная лексика.«Цель любого праздника — это вытянуть из человека как можно больше бабла, патриотизма, эмоций… в зависимости от формата Даты» (с).

Ганза – или Ганзейский союз купечества торговых городов на севере Германии – уникальное явление европейской жизни XII–XVII вв. Ганзейские купцы снабжали Запад русскими мехами и воском, польской пшеницей, венгерской и шведской медью. На Восток они возили фламандское, голландское и английское сукно, французские и португальские соль и вина. Во многом благодаря им Скандинавия и Восточная Европа познакомились с западной литературой, готической архитектурой и живописью эпохи Возрождения. В течение 500 лет Ганза способствовала налаживанию экономических, политических, общественных и культурных связей между Западной и Восточной Европой.
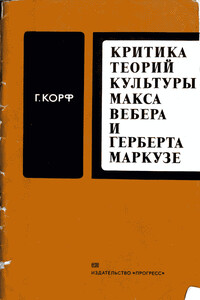
Аннотация издательства: «Книга представляет собой критический очерк взглядов двух известных буржуазных идеологов, стихийно отразивших в своих концепциях культуры духовный кризис капиталистического общества. Г. Корф прослеживает истоки концепции «прогрессирующей рационализации» М. Вебера и «критической теории» Г. Маркузе, вскрывая субъективистский характер критики капитализма, подмену научного анализа метафорами, неисторичность подхода, ограничивающегося поверхностью явлений (отрицание общественно-исторической закономерности, невнимание к вопросу о характере способа производства и т.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".

Дэниэл Тюдор работал в Корее корреспондентом и прожил в Сеуле несколько лет. В этой книге он описывает настоящую жизнь северокорейцев и приоткрывает завесу над одной из самых таинственных стран мира. Прочитав эту книгу, вы удивитесь тому, какими разными могут быть человеческие ценности.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.