За чертой - [25]
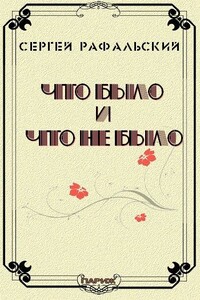
Статистика — она, помимо всего прочего, может быть прочитана совсем по-разному. Недаром в СССР бытует пословица: есть ложь грубая, есть ложь тонкая, а есть и статистика… Вы, наконец, читаете воспоминания о той эпохе, какую описывает в этой книге ее автор, Сергей Милиевич Рафальский (1895–1981). Мемуары А. Ф. Керенского — и Л. Д. Троцкого, П. Н. Милюкова — и Суханова, ген. А. И. Деникина — и, скажем, графа Игнатьева… Но все эти деятели тех лет, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, но стремятся в первую очередь оправдаться «перед лицом истории», да при этом еще и мало были причастны к той непосредственной, рядовой, именуемой ими «обывательской», — жизни, какая и есть жизнь народа, жизнь страны, жизнь эпохи.

Рафальский Сергей Милич [31.08.1896-03.11.1981] — русский поэт, прозаик, политический публицист. В России практически не издавался.Уже после смерти Рафальского в парижском издательстве «Альбатрос», где впоследствии выходили и другие его книги, вышел сборник «Николин бор: Повести и рассказы» (1984). Здесь наряду с переизд. «Искушения отца Афанасия» были представлены рассказ на евангельскую тему «Во едину из суббот» и повесть «Николин Бор» о жизни эмигранта, своего рода антиутопия, где по имени царя Николая Николиным бором названа Россия.

Рафальский Сергей Милич [31.08.1896-03.11.1981] — русский поэт, прозаик, политический публицист. В России практически не издавался.Уже после смерти Рафальского в парижском издательстве «Альбатрос», где впоследствии выходили и другие его книги, вышел сборник «Николин бор: Повести и рассказы» (1984). Здесь наряду с переизд. «Искушения отца Афанасия» были представлены рассказ на евангельскую тему «Во едину из суббот» и повесть «Николин Бор» о жизни эмигранта, своего рода антиутопия, где по имени царя Николая Николиным бором названа Россия.