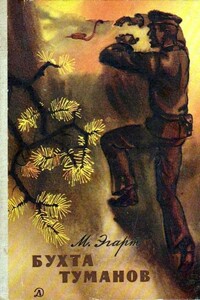Гауптман козырнул, и они тронулись. На втором километре съехали с дороги в кусты. Петро лег в тени под дикой грушей. Но кто же мог знать, что все так благополучно кончится?
Галкин сидел, опершись на ствол молодого дубка, и насвистывал лишь ему одному знакомую мелодию,
— Оставь! — раздраженно бросил Петро.
— Почему? — обиделся Федько. — Нервы?..
Петро не ответил. Припал лицом к земле, вдыхая терпкий аромат.
“А вдруг Катрусю задержали?” Эта мысль ожгла его. Он вскочил и тревожно осмотрелся вокруг.
— Еще рано… — понял его состояние Федько. — Пешком она будет добираться сюда не меньше часа.
Петро закурил, нервно покусывая сигарету. Ни лежать, ни сидеть больше не мог. Метался между густыми кустами, задевая ветки.
И все же первым заметил девушку Галкин. Катруся шла тропинкой по другую сторону шоссе, срывая по дороге цветы, — в руках у нее был букетик.
Федько тихонько свистнул. Катруся перебежала шоссе. Стояла возле машины, раскрасневшаяся, взволнованная, с букетом бело-желтых ромашек в руке. Она казалась Петру такой красивой, красивее которой никогда не было и не будет на свете.
Через час съехали с шоссе и несколько километров петляли лесной дорогой. На поляне подожгли машину, а сами, захватив рацию, пошли через лес дорогой, известной лишь одному Галкину. Еще до сумерек он привел их в район расположения отряда.
Дорошенко обнял Петра.
— Вот ты какой! — говорил он, сжимая его в медвежьих объятиях. — Знаем, знаем про твои подвиги!..
Не успел Петро отдышаться, как прибежал Богдан и едва не задушил друга. А за ним стояла Катруся. Она смеялась от души и весело.
Галкин вызвал Центр, и через полчаса стало известно: ночью на территории отряда приземлится самолет, который заберет Петра и Катрусю.
Богдан загрустил.
— Не успел еще поговорить с сестренкой, как… — махнул безнадежно рукой.
— Теперь уже скоро будем вместе, — успокоила его Катря. — Далек ли фронт? Не успеешь оглянуться, как наши будут здесь.
…Они стояли около командирской землянки под исполинской сосной, которая тихо шумела на ветру. На костре варилась каша. Пахло горьковатым дымом, разваренным пшеном и еще чем-то знакомым, но Петро никак не мог догадаться — чем. Прислонился к сосне рядом с Катрусей, ощутил тепло ее плеча и вдруг понял, какой запах тревожил его. Пахло ландышами — любимыми цветами Катруси. Потому ли, что узнал, наконец, этот аромат, или потому, что шумел лес и в небе светились звезды, а рядом стояла любимая, у Петра стало так спокойно и тепло на душе, что захотелось петь. И музыка уже заполняла его, казалось — поет весь лес, деревья шумят в такт грустной, проникновенной, трогательной мелодии.
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза…
Пылает костер, трещат сухие ветви, дым стелется над землей. Лесной партизанский костер, а вокруг храбрые, надежные люди. Свои… Как хорошо, что вокруг свои! Два года был он среди чужих, среди врагов. Два года прошло с того дня, когда они с Богданом постучали в окошко к Катрусе.
До тебя далеко, далеко,
Между нами снега и снега…
Налетел ветер, раздул огонь и поднял вверх сноп блестящих искр.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови…
А это счастье — рядом. Оно пахнет ландышами.
“Неужели я счастлив? — упрекнул себя Петро. — Но я ведь не знаю, что стало с дорогим и родным человеком — Евгеном Степановичем. Может быть, в эту минуту его пытают в гестапо, а может… Нет, — едва не застонал, — нет и нет!.. Сколько жертв… Тысячи и тысячи, где-то там, на востоке, сидят в окопах и не знают, кто из них доживет до завтра… Идет война! Может быть, завтра не будет и меня… И все же я счастлив!” — захотелось крикнуть так, чтобы слова поплыли над лесом далеко-далеко, до мерцающих звезд.
А с неба уже доносился гул самолета, и на большой лесной поляне запылали сигнальные костры…