Йоше-телок - [8]
Юноши из бесмедреша не смогли дождаться Швуэса и посреди сфиры отправились на реку купаться. Хорошие пловцы плыли саженками и горланили, как в бане:
— Ай, хорошо, хорошо! Благодать…
Вскоре после купания они пошли во двор ребе, в большую сукку[38], чтобы нарядиться казаками; на каждую свадьбу в Нешаве парни и мальчишки одевались казаками, садились на коней и ехали встречать жениха на вокзал, который располагался в нескольких километрах от города.
В сукке, среди старых ветвей, оставшихся от кровли, и набросанных грудой столов и скамей, валялись целые тюки с униформами; от свадьбы до свадьбы они лежали и плесневели. Юноши влезли в длинные узкие штаны с лампасами, натянули гусарские мундиры, которые, с их плетеными шнурами, блестящими пуговицами и яркими украшениями, представляли собой мешанину из разных стилей, какую-то помесь венгерских кавалеристов, опереточных гусаров и польских пехотинцев незапамятных времен. И уж совсем фантастичны были шапки, высокие меховые шапки, увенчанные черными лошадиными хвостами. Юноши со свисающими пейсами, растрепанными бородами и сутулыми фигурами ешиботников, на которых все болтается, выглядели как турки с картинок в волшебном фонаре, который возят по маленьким местечкам, где мальчишки платят грош, чтобы посмотреть в дырочку.
Все извозчики и все, кто держал лошадей, привели «казакам» своих кляч. Лошади, усталые, с опущенными головами и испачканными ноздрями — их только что оторвали от вкусного липкого корма, — не позволяли юношам взобраться на свои сгорбленные костлявые спины, не хотели идти. «Казаки» дергали поводья и крепко держались за лошадиные гривы, чтобы не упасть. Несколько хасидов внесли в пустую сукку бочку, в которой обычно квасили свеклу для пасхального борща[39]. Другие принесли из кухни ведра с горячей водой и вылили в бочку. А самые важные особы, богачи и ученые, чистили лимоны, выжимали сок, так что он стекал по их пальцам в горячую воду, и сыпали туда сахар из мешочков. Они готовили нешавский свадебный пунш. Люди ссорились, переругивались, каждый утверждал, что он и только он — истинный мастер пунша.
— Болван! Пусти, дай я! — бранились они, но никто не обижался.
Все лили воду, выжимали лимонный сок, пробовали и цокали языком:
— Райский вкус!
Во двор въехала карета, запряженная четвериком белых лошадей цугом. Это граф Ольха выслал навстречу жениху карету с четверкой коней. Он всегда так делал, когда при дворе ребе играли свадьбу. Поэтому Нешавский ребе приказывал своим хасидам голосовать за графа на выборах в австрийский парламент.
Кучер, огромный мужик с длинными светлыми усами, переходящими в бакенбарды, отведал медовой коврижки и водки, что ему вынесли из дома ребе, и в кураже так щелкнул длинным кнутом, пройдясь им по всем казацким клячам, что те пустились вскачь, как в молодые годы.
— Żywo, żydowskie wojsko![40] — прикрикнул он на испуганных «казаков», вцепившихся в лошадиные гривы. — Эй, тателе, мамеле, марш!..
Кучер так гнал коней, что все потонуло в солнце и пыли. Уже не видны были перепуганные глаза всадников, которым лошади во время скачки казались огромными жеребцами. Уже не слышны были голоса парней, которые от страха принялись читать «Шма». Все заглушил стук подков и свист кнута. Когда прибыл поезд, «казаки» с песней направились к жениху.
— Поздравляем жениха! — кричали они, протягивая ему руки. — Здравствуй!..
Уставший с дороги, взволнованный чужой, новой обстановкой, весь в пыли, поднятой толпившимися вокруг странными созданиями, каких в Рахмановке никто никогда не видел, Нохемче стоял растерянный, бледный. Большими черными глазами, казавшимися еще чернее оттого, что были обведены темными кругами, он глядел на галдящих суетливых чужаков и стеснялся — стеснялся почестей, которые ему воздавали, и толкотни, которую устроили вокруг него. Его утомило множество рук, горячих, потных, что тянулись к нему в приветствии. Он лишь дотрагивался до них тонкой мальчишеской рукой, самыми кончиками пальцев.
— Потише, потише! — останавливал людей рахмановский габай Мотя-Годл, бросая злые взгляды на собравшихся.
Враг австрийских ребе и их хасидов, он уже заранее смотрел на «австрияков» с ненавистью. Его крючковатый нос был нацелен вперед, как клюв у ястреба, когда тот издали видит добычу. «Казаки» не услышали его, стали толкаться еще сильнее, и тогда Мотя-Годл принялся учить их почтению.
— Дикари! Не сметь толкаться! — бушевал он. — Гойское отродье!
Исроэл-Авигдор сразу же выхватил из речи чужака это «гойское отродье» и немедленно осадил русскую свинью, что приехала в Нешаву командовать.
— Имейте уважение к людям! — воскликнул он. — Это там, в Рахмановке, гойское отродье, а здесь, в Нешаве, — добрые евреи, благочестивые и богобоязненные.
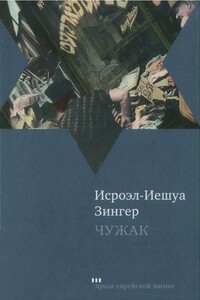
Имя Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) упоминается в России главным образом в связи с его братом, писателем Исааком Башевисом. Между тем И.-И. Зингер был не только старшим братом нобелевского лауреата по литературе, но, прежде всего, крупнейшим еврейским прозаиком первой половины XX века, одним из лучших стилистов в литературе на идише. Его имя прославили большие «семейные» романы, но и в своих повестях он сохраняет ту же магическую убедительность и «эффект присутствия», заставляющие читателя поверить во все происходящее.Повести И.-И.
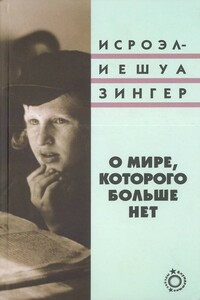
Исроэл-Иешуа Зингер (1893–1944) — крупнейший еврейский прозаик XX века, писатель, без которого невозможно представить прозу на идише. Книга «О мире, которого больше нет» — незавершенные мемуары писателя, над которыми он начал работу в 1943 году, но едва начатую работу прервала скоропостижная смерть. Относительно небольшой по объему фрагмент был опубликован посмертно. Снабженные комментариями, примечаниями и глоссарием мемуары Зингера, повествующие о детстве писателя, несомненно, привлекут внимание читателей.
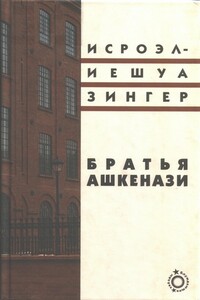
Роман замечательного еврейского прозаика Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) прослеживает судьбы двух непохожих друг на друга братьев сквозь войны и перевороты, выпавшие на долю Российской империи начала XX-го века. Два дара — жить и делать деньги, два еврейских характера противостоят друг другу и готовой поглотить их истории. За кем останется последнее слово в этом напряженном противоборстве?
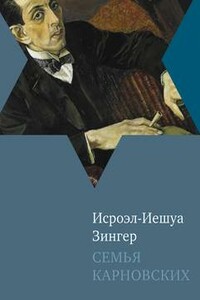
В романе одного из крупнейших еврейских прозаиков прошлого века Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) «Семья Карновских» запечатлена жизнь еврейской семьи на переломе эпох. Представители трех поколений пытаются найти себя в изменчивом, чужом и зачастую жестоком мире, и ломка привычных устоев ни для кого не происходит бесследно. «Семья Карновских» — это семейная хроника, но в мастерском воплощении Исроэла-Иешуа Зингера это еще и масштабная картина изменений еврейской жизни в первой половине XX века. Нобелевский лауреат Исаак Башевис Зингер называл старшего брата Исроэла-Иешуа своим учителем и духовным наставником.
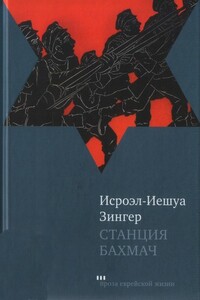
После романа «Семья Карновских» и сборника повестей «Чужак» в серии «Проза еврейской жизни» выходит очередная книга замечательного прозаика, одного из лучших стилистов идишской литературы Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944). Старший брат и наставник нобелевского лауреата по литературе, И.-И. Зингер ничуть не уступает ему в проницательности и мастерстве. В этот сборник вошли три повести, действие которых разворачивается на Украине, от еврейского местечка до охваченного Гражданской войной Причерноморья.
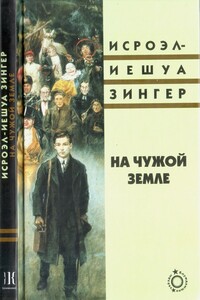
В сборник «На чужой земле» Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944), одного из лучших стилистов идишской литературы, вошли рассказы и повести, написанные в первой половине двадцатых годов прошлого века в Варшаве. Творчество писателя сосредоточено на внутреннем мире человека, его поступках, их причинах и последствиях. В произведениях Зингера, вошедших в эту книгу, отчетливо видны глубокое знание жизненного материала и талант писателя-новатора.
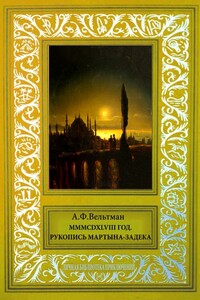
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.
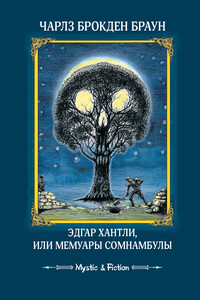
Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
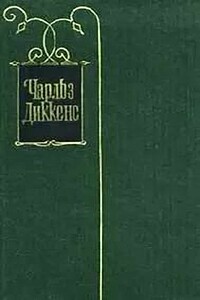
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
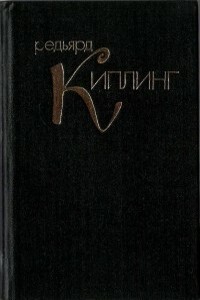
Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
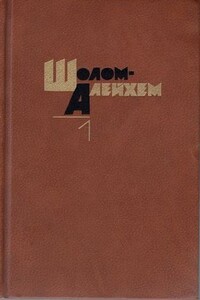
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.
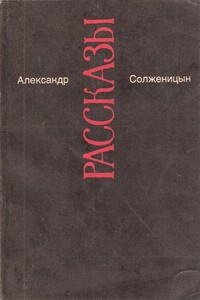
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
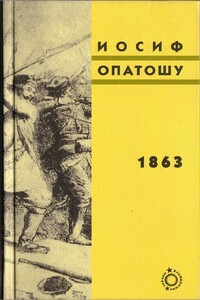
Роман «1863» — вторая часть неоконченной трилогии «В польских лесах», повествующей о событиях польского восстания 1863 г. Главный герой романа Мордхе Алтер увлекается революционными идеями. Он встречается с идеологом анархизма Бакуниным, сторонником еврейской эмансипации Моше Гессом, будущим диктатором Польши Марианом Лангевичем. Исполненный романтических надежд и мессианских ожиданий, Мордхе принимает участие в военных действиях 1863 г. и становится свидетелем поражения повстанцев.
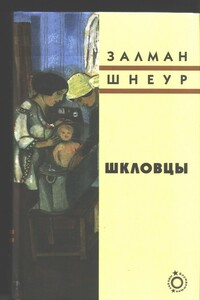
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
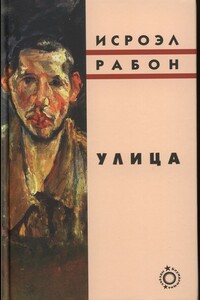
Роман «Улица» — самое значительное произведение яркого и необычного еврейского писателя Исроэла Рабона (1900–1941). Главный герой книги, его скитания и одиночество символизируют «потерянное поколение». Для усиления метафоричности романа писатель экспериментирует, смешивая жанры и стили — низкий и высокий: так из характеров рождаются образы. Завершает издание статья литературоведа Хоне Шмерука о творчестве Исроэла Рабона.
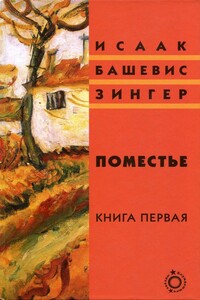
Роман нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991) «Поместье» печатался на идише в нью-йоркской газете «Форвертс» с 1953 по 1955 год. Действие романа происходит в Польше и охватывает несколько десятков лет второй половины XIX века. Польское восстание 1863 года жестоко подавлено, но страна переживает подъем, развивается промышленность, строятся новые заводы, прокладываются железные дороги. Обитатели еврейских местечек на распутье: кто-то пытается угнаться за стремительно меняющимся миром, другие стараются сохранить привычный жизненный уклад, остаться верными традициям и вере.