Язык вещей - [3]
Если бы Берджер писал «Искусство видеть» сегодня, слово «реклама» он, возможно, заменил бы на «дизайн». Нет никаких сомнений в том, что найдется немало людей, воспринимающих этот термин так же негативно, как Берджер — рекламу.
От чрезмерного употребления понятие «дизайнер» затерлось, утратив прежний смысл, и превратилось в синоним таких слов, как «цинизм» и «манипуляторство». Bulthaup, немецкая фирма — производитель кухонной мебели, продукция которой стала непременным атрибутом стильного жилого пространства, вообще запрещает использовать слово «дизайн» в рекламе своих изделий. Тем не менее дизайн вещей может стать очень эффективным способом видения мира. Книга Берджера входит в весьма обширную категорию литературы об искусстве. Однако с тех пор как в 1957 году Ролан Барт написал «Мифологии», а Жан Бодрийяр десять лет спустя опубликовал полную расплывчатых формулировок «Систему вещей», почти никто из критиков не подвергал дизайн столь же тщательному анализу. Это прискорбный пробел. Близкую к берджеровской точку зрения высказывает специалист по истории архитектуры Эдриан Форти в книге «Объекты желания», вышедшей в 1986 году. Но сегодня, когда мир вещей переживает взрывной, конвульсивный рост, безостановочно выбрасывая самые разные изделия по всем направлениям, необходим анализ, количественно и качественно отличающийся от общепризнанного нарратива о появлении модернизма в качестве deus ex machina,объясняющего суть «века машин».
И Барта, и Бодрийяра совершенно не интересует роль дизайнера: они предпочитают рассматривать вещи как материальное проявление массовой психологии. Бодрийяр, к примеру, открыто заявлял, что современный интерьер является не порождением творческой деятельности — дизайна, а торжеством буржуазных ценностей над прежней, более приземленной реальностью: «В современных интерьерах мы свободнее. Но это сопровождается новым, более тонким формализмом и новыми моральными ограничениями: во всех предметах выражается закономерный переход от еды, сна, продолжения рода к таким занятиям, как курение, питье, прием гостей, беседа, смотрение телевизора или чтение. Первично-телесные функции отступают на второй план перед функциями окультуренными. В традиционном буфете хранилось белье, посуда, продукты, в функциональных же блоках — книги, безделушки, бутылки или даже просто пустота».
Но это — особая точка зрения, жалоба бульвардье. Наша материальная культура, на мой взгляд, не только не подавляет наши «первобытные» желания, но и, наоборот, заинтересована в их удовлетворении.
Наши отношения с вещами отнюдь не прямолинейны. Это сложная смесь знания и невинности. Вещи вовсе не так безобидны, как полагал Берджер, а потому слишком интересны, чтобы оставлять их без внимания.
Глава 1
Язык
Начнем с вещи, в буквальном смысле находящейся у меня под рукой, — ноутбук, на котором я пишу эти строки, был куплен в аэропорту, в магазине Dixons. За этот выбор винить можно только меня самого — даже то, что Берджер называл рекламой, здесь ни при чем. Некоторые магазины устроены так, чтобы соблазнять покупателей; другие же позволяют им принять решение самостоятельно.
Dior и Prada нанимают лауреатов Притцкеровской премии, чтобы те проектировали им магазины, размером и пышностью напоминающие оперный театр и вводящие покупателей в экстатический потребительский транс. У Dixons — другая политика. В типичном магазине этой сети, продающем в Хитроу электронику со скидкой, никто никого не соблазняет ни прямо, ни косвенно, и вообще не применяет изощренных форм розничной торговли. И какой-либо рекламы Dixons, призывающей меня зайти к ним, я тоже не припомню, хотя компании, чьи изделия продает эта сеть, естественно, рекламируют свою продукцию. В аэропорту нет ни времени, ни места для очарования и гипноза, для нюансов и иронии. Все сделки там примитивны и грубы. Витрины отсутствуют, и мужчины в пиджаках и с наушником в ухе не распахивают почтительно двери перед вами. Покупки не упаковывают в красивую оберточную бумагу, а сдачу не выдают хрустящими новенькими банкнотами. Есть лишь непрерывный гул множества приборов, нагроможденных до потолка и продающихся по низкой цене, но не настолько дешево, чтобы отвлечь ваше внимание.
Случается, некоторые из пассажиров эконом-класса, наводнивших аэропорт перед семичасовым рейсом на Дюссельдорф, повертят в руках цифровой фотоаппарат или мобильный телефон; может быть, кто-то купит адаптер. Время от времени кто-то из них достает кредитную карту и что-нибудь покупает, лихорадочно вводя пин-код пальцами, дрожащими от страха опоздать на самолет. Внешне потребление здесь выглядит примитивным, без церемоний и изысков, низведенным до своей голой сути. Тем не менее даже в аэропорту купить что-то — значит принять непростое рациональное решение. Словно актер, играющий без грима и огней рампы, ноутбук, в конце концов убедивший меня, что он мне нужен, сделал это сугубо самостоятельно, без посторонней помощи.
Основаниями для этой покупки стали соблазны и манипуляции, существовавшие исключительно у меня в голове, а не во внешнем пространстве. Понять, как ноутбуку удалось вызвать у меня желание заплатить за него и забрать с собой, значит понять что-то обо мне самом и, может быть, кое-что о роли дизайна в современном мире. Точно могу сказать, что тот факт, что этот компьютер станет моим пятым ноутбуком за восемь лет, не играл главной роли в моем выборе.
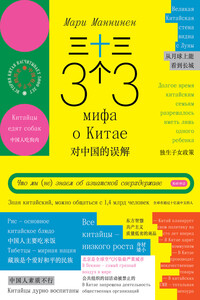
«33 мифа о Китае» отвечают на злободневные вопросы, рассеивая туман стереотипов о жизни в Китае, его культуре и обществе. Финская журналистка Мари Маннинен прожила в Китае четыре года и написала множество статей о положении дел в КНР для ведущих изданий Финляндии. Основываясь на личном опыте и десятках интервью с экспертами, она расставила все точки на иероглифами. Действительно ли китайцы дурно воспитаны? Как работает «политика одного ребенка»? Объективен ли наш взгляд на Тибет? Правда ли, что в Пекине самый грязный воздух в мире? А как там с цензурой?
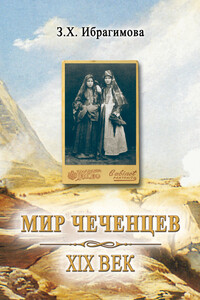
В монографии впервые представлено всеобъемлющее обозрение жизни чеченцев во второй половине XIX столетия, во всех ее проявлениях. Становление мирной жизни чеченцев после завершения кровопролитной Кавказской войны актуально в настоящее время как никогда ранее. В книге показан внутренний мир чеченского народа: от домашнего уклада и спорта до высших проявлений духовного развития нации. Представлен взгляд чеченцев на внешний мир, отношения с соседними народами, властью, государствами (Имаматом Шамиля, Российской Империей, Османской Портой). Исследование основано на широком круге источников и научных материалов, которые насчитывают более 1500 единиц. Книга предназначена для широкого круга читателей.
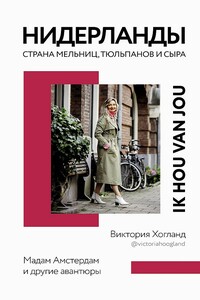
После успеха первой книги «Голландские дети спят всю ночь», получившей высокую оценку доктора Комаровского, Виктория Хогланд представляет сборник коротких рассказов о Нидерландах. В него вошли как уже любимые читателями юмористические заметки про жизнь в голландской деревне и приключениях ее мужа Адри, так и новые рассказы о культуре и нравах местных жителей. Яркий, сочный журналистский стиль Виктории, удачно дополненный иллюстрациями Бажены Борисовой и Александра Качуры, заставит вас смеяться, грустить, хмуриться, хихикать, удивленно качать головой и совершенно точно мотивирует посетить страну мельниц, тюльпанов и сыра.В формате A4.pdf сохранен издательский макет.
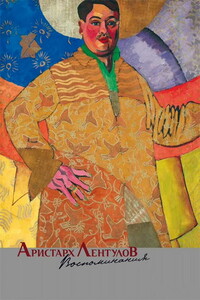
Книга воспоминаний художника Аристарха Лентулова, одного из основателей объединения «Бубновый валет», яркого представителя русского авангарда начала XX в., — первая полная публикация литературного наследия художника. Воспоминания охватывают период с 1900-х по 1930-е гг. — время становления новых течений в искусстве, бурных творческих баталий, революционных разломов и смены формаций, на которое выпали годы молодости и зрелости А. В. Лентулова.Издание сопровождается фотографиями и письмами из архива семьи А. В. Лентулова, репродукциями картин художника, подробными комментариями и адресовано широкому кругу читателей, интересующихся русской культурой начала — первой трети XX в.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

В книгу известного ученого, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РФ Ростислава Васильевича Кинжалова вошли исторический роман «Боги ждут жертв», рассказ «Орлы Тиночтитлана» и статьи из научного сборника «Астрата».