Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования - [7]
Конечно, всегда есть соблазн придать правилу стабильный и всеобщий характер путем отсекания тех аспектов нашего опыта, которым это правило заведомо не может удовлетворять; можно объявить эти аспекты несущественными, вторичными, маргинальными, внеположными предмету нашего исследования. Чем сильнее требования, предъявляемые мыслью к концептуальной упорядоченности языковой рефлексии, тем большей стилизации, препарированию и ограничениям подвергается — сознательно или непреднамеренно — языковой материал, по поводу которого эта рефлексия производится. Я категорически утверждаю (и надеюсь показать это в дальнейшем на ряде конкретных примеров), что нет такого языкового правила, обобщения, категории, относительность и неустойчивость которых не обнаружилась бы при достаточно близком взгляде на непосредственно наблюдаемый языковой опыт.
Мне кажется, что только приняв открытость и текучесть нашей жизни в языке, можно попытаться объяснить тот факт, что нам удается более или менее успешно справляться с множественностью и неповторимостью опыта, приносимого языковым существованием, — с тем, что каждый последующий момент приносит нам новое, никогда в точности до этого не встречавшееся и никогда более не повторяющееся переживание, адаптация к которому требует от нас пусть скромных, но всегда уникальных творческих усилий. То, что в этих условиях нам удается каким-то образом что-то «сообщить» и что-то «понять», что-то сформулировать и что-то узнать и отложить в памяти — хотя и не всегда с одинаковым успехом, и никогда с полным успехом, — представляется мне самой поразительной чертой феномена, который мы привыкли называть «языком». Какой бы интеллектуальной утонченностью и объяснительной силой ни обладала та или иная логически организованная модель языка, — она, уже в силу своего фиксированного характера, является заведомо недостаточной для того, чтобы объяснить этот растворенный в обыденности феномен, с которым мы встречаемся на каждом шагу, в каждое мгновение языкового существования. При всем интеллектуальном блеске и глубине результатов, накопленных лингвистикой на путях освоения языка как рационально построенного объекта, — я не могу не ощущать эти результаты как упрощение и снижение, сравнивая их с тем трудно заметным и все время ускользающим, динамическим аспектом нашего взаимодействия с языком, который сопровождает наше существование в языке в каждый его момент, на всем протяжении нашего жизненного опыта.
Итак, цель этой книги — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя, насколько это возможно, за языковым поведением и интуицией говорящих. Автор отдает себе отчет в том, что когда речь идет о языковой интуиции, то, как бы он ни стремился поверить свои наблюдения опытом других, в его распоряжении имеется в сущности только один интуитивный языковой опыт — его собственный. Ведь интуиция по самой своей природе идиосинкретична, пропитана характером личности, неотделима от всего строя ее жизни.
Однако это обстоятельство не кажется мне дисквалифицирующим все предприятие. Ведь наша языковая деятельность — то, как мы взаимодействуем через язык с своими собственными мыслями и мыслями других людей, — всегда индивидуальна, всегда пропитана неповторимыми чертами характера, памяти, воззрений, интеллектуальных и эмоциональных состояний каждого говорящего как личности. Сколько бы мы ни говорили о языке как социальном факте, об общих кодах, структурных правилах и конвенциях языкового поведения, разделяемых всеми «носителями» языка или теми или иными их подгруппами, в конце этой цепочки всегда оказываются действия личностей, которым каким-то образом удается претворить свой неповторимый опыт в нечто, способное быть воспринятым другими людьми и сделаться частью их столь же неповторимого опыта[12]. Каким образом этого удается достигнуть — об этом всякий может попытаться рассказать, исходя, в конечном счете, из собственных наблюдений и размышлений. Как и всякое языковое действие, такой рассказ может оказаться более или менее «успешным», то есть более или менее осмысленным для других людей, более или менее способным найти отклик в их сознании и сделаться частью их собственного опыта. Но как всякое языковое действие, он не может быть полностью отделен от личности рассказывающего.
Мне не хотелось бы, чтобы у читателя создалось впечатление, что автор, в своем стремлении избежать, насколько возможно, готовых организующих концепций языка, становится в позу идеального дикаря — этого создания эпохи Просвещения, чья эпистемологическая невинность была подвергнута последующими эпохами справедливому сомнению. Напротив: я глубоко убежден в культурно-исторической укорененности любой концепции — в том числе своей собственной. В связи с этим представляется полезным обсудить вопрос о том, какой смысл может иметь предлагаемый здесь подход к языку в контексте известных традиций и течений философской и лингвистический мысли.
2. Методологическая дилемма: между «конструкцией» и «деконструкцией»
Роlоnius. Though this be madness, yet there is method in’t.
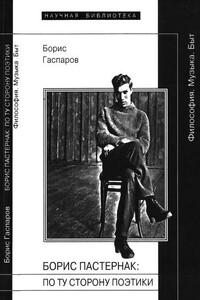
Интенсивные, хотя и кратковременные занятия Пастернака музыкой и затем философией, предшествовавшие его вхождению в литературу, рассматриваются в книге как определяющие координаты духовного мира поэта, на пересечении которых возникло его творчество. Его третьим, столь же универсально важным измерением признается приверженность Пастернака к «быту», то есть к непосредственно данной, неопосредованной и неотфильтрованной сознанием действительности. Воссоздание облика этой «первичной» действительности становится для Пастернака кардинальной философской и этической задачей, достижимой лишь средствами поэзии, и лишь на основании глубинного трансцендентного «ритма», воплощение которого являет в себе музыка.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.
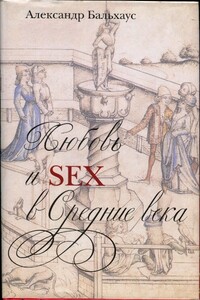
Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.