Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования - [3]
Попытка привлечь к таким вопросам внимание, сделать их легитимным и должным образом сформулированным объектом языкового описания и составляет главное содержание этой книги. Свою задачу я видел в том, чтобы посмотреть на наши взаимоотношения с языком не как на целенаправленную «работу», совершаемую по определенным поводам, на основании определенных правил, над определенными, имеющими постоянные свойства строительными элементами, но как на экзистенциальный процесс, столь же всеобъемлющий, но и столь же лишенный какой-либо твердой формы и единого направления, как сама повседневная жизнь.
Все то, что можно принять — и что лингвистика склонна слишком легко и охотно принимать — за стабильные языковые объекты, то есть все те «конечные продукты» языковой деятельности, которые говорящий производит сам и которые он получает от других говорящих, являются таковыми лишь при самом поверхностном рассмотрении. Всякий такой «продукт» не существует для говорящего иначе как в среде ассоциаций, интеллектуальных и эмоциональных реакций, непроизвольных воспоминаний, интуитивных и сознательных оценок ситуации и партнера и вытекающих из этого антиципаций того, как ситуация общения с ним будет развертываться в дальнейшем и какие новые коммуникативные задачи из этого вытекают. Свойства такого продукта (реплики диалога, устного высказывания, письменного текста), то, каким он является данному говорящему в данной ситуации, — неотделимы от бесконечно текучей среды многонаправленных мыслительных языковых действий, в которую наш «продукт» погружается и течение которой он, в свою очередь, изменяет самим фактом своего погружения.
Всякий акт употребления языка — будь то произведение высокой ценности или мимолетная реплика в разговоре — представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом своем качестве он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при которых и для которых он был создан: коммуникативные намерения автора, всегда множественные и противоречивые и никогда не ясные до конца ему самому; взаимоотношения автора и его непосредственных и потенциальных, близких и отдаленных, известных ему и воображаемых адресатов; всевозможные «обстоятельства» — крупные и мелкие, общезначимые или интимные, определяюще важные или случайные, — так или иначе отпечатавшиеся в данном сообщении; общие идеологические черты и стилистический климат эпохи в целом, и той конкретной среды и конкретных личностей, которым сообщение прямо или косвенно адресовано, в частности; жанровые и стилевые черты как самого сообщения, так и той коммуникативной ситуации, в которую оно включается; и наконец — множество ассоциаций с предыдущим опытом, так или иначе попавших в орбиту данного языкового действия: ассоциаций явных и смутных, близких или отдаленных, прозрачно очевидных и эзотерических, понятийных и образных, относящихся ко всему сообщению как целому или отдельным его деталям.
Языковая среда, в которой осуществляется эта деятельность, непрерывно движется, течет. Каждый новый случай употребления языка происходит в несколько изменившихся условиях, изменяющих для говорящего очертания языковой среды, режимы ее работы. Попадая из языковой среды автора в языковую среду каждого нового адресата, созданное высказывание всякий раз меняет условия своего существования. Любые внешние условия, сопричастные данному моменту языковой деятельности, оказывают влияние на его ход и результаты. Но с другой стороны, сами эти внешние условия, отпечатавшись в высказывании, претерпевают изменения в силу своей адаптации именно к данному высказыванию; сами условия среды, в которых совершается языковой процесс, будучи вовлечены в течение этого процесса, начинают выглядеть по-иному. А это, в свою очередь, оказывает влияние на языковой процесс, изменяя его течение, — и так до бесконечности.
Как конкретно протекает это броуновское движение бесконечных частиц нашего языкового опыта, со всей их отрывочностью, личностной идиосинкретичностью, летучей неустойчивостью? Каким образом возможно — и возможно ли вообще — представить такой процесс в виде разумно упорядоченного описания, без того, чтобы пропустить этот наш живой опыт сквозь фильтр какой-либо тотальной организующей идеи: например, идеи о том, что язык является формой воплощения универсальных категорий мышления, врожденных человеческому сознанию, либо собранием материальных форм, подлежащих действию естественных законов, либо системой социально санкционированных знаков, порождающим механизмом (такого-то типа и строения), отпечатком духа народа или классовой идеологии, и т. п.?
В основе замысла книги лежит попытка увидеть в этой текучей среде самоценный предмет наблюдения и изучения, а не сырую породу, из которой произвольно извлекаются те или иные предметы, относительно которых достигнута договоренность, что именно эти предметы представляют собой феномен «языка». Мною двигало стремление как можно пристальнее и конкретнее рассмотреть то, что, собственно, мы делаем — и что делается с нами, — в каждый момент нашего существования, наяву или во сне, наедине с собой или в обществе, в момент напряжения сил или в момент отдыха, в благоприятной или неблагоприятной ситуации, когда мы так или иначе вступаем в соприкосновение с нашим языком? Что это, собственно, значит — что мы что-то себе или другим «сказали», или «поняли» (или не поняли), что мы что-то «намеревались» сказать, и что этот момент нашей духовной жизни нам в какой-то степени удалось — а в какой-то и не удалось — «выразить»? Какие действия мы при этом производим, и над чем? какие мысли, переживания, образные картины, воспоминания, ассоциации проносятся при этом в нашем сознании как неотъемлемая часть этих действий? Как эта вездесущая, но вместе с тем неуловимо-летучая среда языковой мысли соотносится с тем, что в конце концов оформляется в объективированный, доступный внешнему наблюдению акт употребления языка? и насколько «объективированным» можно считать такой акт, принимая во внимание всю ту атмосферу словесных и образных реминисценций и ассоциаций, в которую он погружен в сознании как самого говорящего, так и каждого, с кем так или иначе соприкасаются его языковые действия?
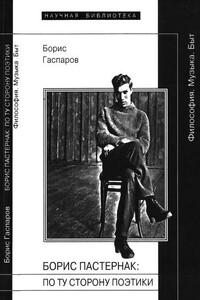
Интенсивные, хотя и кратковременные занятия Пастернака музыкой и затем философией, предшествовавшие его вхождению в литературу, рассматриваются в книге как определяющие координаты духовного мира поэта, на пересечении которых возникло его творчество. Его третьим, столь же универсально важным измерением признается приверженность Пастернака к «быту», то есть к непосредственно данной, неопосредованной и неотфильтрованной сознанием действительности. Воссоздание облика этой «первичной» действительности становится для Пастернака кардинальной философской и этической задачей, достижимой лишь средствами поэзии, и лишь на основании глубинного трансцендентного «ритма», воплощение которого являет в себе музыка.
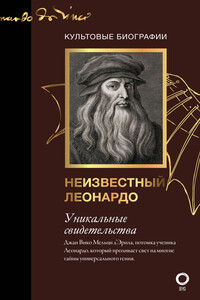
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
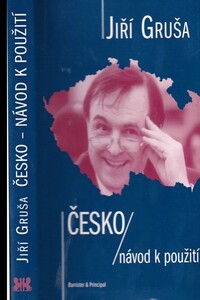
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.