Ясно. Новые стихи и письма счастья - [9]
«Я не стою и этих щедрот…»
«В Берлине, в многолюдном кабаке…»
Песни славянских западников
1. Александрийская песня
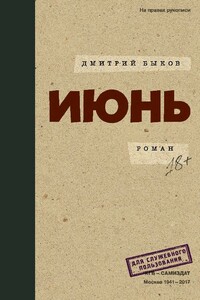
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.
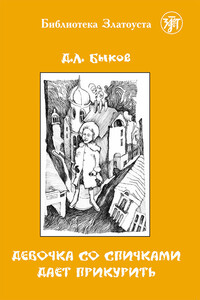
Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

Дмитрий Быков — одна из самых заметных фигур современной литературной жизни. Поэт, публицист, критик и — постоянный возмутитель спокойствия. Роман «Оправдание» — его первое сочинение в прозе, и в нем тоже в полной мере сказалась парадоксальность мышления автора. Писатель предлагает свою, фантастическую версию печальных событий российской истории минувшего столетия: жертвы сталинского террора (выстоявшие на допросах) были не расстреляны, а сосланы в особые лагеря, где выковывалась порода сверхлюдей — несгибаемых, неуязвимых, нечувствительных к жаре и холоду.

«История пропавшего в 2012 году и найденного год спустя самолета „Ан-2“, а также таинственные сигналы с него, оказавшиеся обычными помехами, дали мне толчок к сочинению этого романа, и глупо было бы от этого открещиваться. Некоторые из первых читателей заметили, что в „Сигналах“ прослеживается сходство с моим первым романом „Оправдание“. Очень может быть, поскольку герои обеих книг идут не зная куда, чтобы обрести не пойми что. Такой сюжет предоставляет наилучшие возможности для своеобразной инвентаризации страны, которую, кажется, не зазорно проводить раз в 15 лет».Дмитрий Быков.

Дмитрий Быков – блестящий публицист, прозаик и культуртрегер, со своим – особенным – взглядом на мир. А ещё он – заядлый путешественник. Яркие, анекдотичные истории о самых разных поездках и восхождениях – от экзотического Перу до не столь далёкой Благодати – собраны в его новой книге «Палоло, или Как я путешествовал».

Сексуальная революция считается следствием социальной: раскрепощение приводит к новым формам семьи, к небывалой простоте нравов… Эта книга доказывает, что всё обстоит ровно наоборот. Проза, поэзия и драматургия двадцатых — естественное продолжение русского Серебряного века с его пряным эротизмом и манией самоубийства, расцветающими обычно в эпоху реакции. Русская сексуальная революция была следствием отчаяния, результатом глобального разочарования в большевистском перевороте. Литература нэпа с ее удивительным сочетанием искренности, безвкусицы и непредставимой в СССР откровенности осталась уникальным памятником этой абсурдной и экзотической эпохи (Дмитрий Быков). В сборник вошли проза, стихи, пьесы Владимира Маяковского, Андрея Платонова, Алексея Толстого, Евгения Замятина, Николая Заболоцкого, Пантелеймона Романова, Леонида Добычина, Сергея Третьякова, а также произведения двадцатых годов, которые переиздаются впервые и давно стали библиографической редкостью.

В новую книгу поэта Дмитрия Быкова вошли новые стихотворения и политические фельетоны в стихах «Письма счастья», написанные за последние два года.