Ярцагумбу - [6]
Ночная темень сада глядела в окна с четырех сторон дома, томилась, задумывалась, пытаясь закрепить в себе смыслы ушедшего дня. Она не хотела, но должна была позабыть все к утру, опростав свою память для будущего цветного рванья событий и сцен. Ночь загустевала и бредила завтрашними вспышками добра и негодований, в сонном оцепенении, почти не слыша цикадного сверчения и лая лениво перебрехивающихся вдалеке собак. Звуки обмякали, отступая от окон вглубь садовой ватности, тонули в ее мягком уютном теле. Жизнь сада, огражденная от ненужного мира таинством сна, протекала сама по себе. Физически она обособилась замкнутыми воротами и калитками, равнодушная к блудливой улице, которая так любит целоваться с собственной пылью. Безразличен ей становился в эту пору и дом, что дремал по-стариковски, некрепко.
Дом упирался черепичным скатом в высокий сильный дуб, удобно примащивался и уплывал в сны, ровные и длинные, как река, которую он никогда не видел. Дому и саду хотелось спать долго, победно пересекая ночь в медленной лодке, плывущей против течения событий. Им было сладко булькать и дребезжать, наполняя мистическим храпом мрак и покои, и верить в их бесконечность и абсолютную власть.
Сад и дом самозабвенно плели единый кокон двойного сна и мерно раскачивались в его путаном плотном кружеве посреди невнятного движения грез.
Утро терзало солнечную тетрадь, разбрасывая прозрачные страницы по изумленному такой расточительностью, клочками отраженному в небесных зеркалах саду. То тут, то там веселились, плясали ягодные и цветочные лоскуты, разрастаясь неразберихой рисунка.
Дневное время слепло от жары, шевелилось пересушенным до одервенения старушечьим соседским бельем. Веревочные натяжения резали, кромсали плоскость дня. К обеду белый день испепелялся и почти исчезал, рассыпался в дрожании жара; позже проявлялся снова раскаленными листами, шумно шарахался на ветру, складывался вдвое, вчетверо, ввосьмеро… Вечер где-то рядом блудил и терялся, прятался долго, но нехотя все же показывал лицо, поднимал золотистые глаза. Вечер осчастливливал своим появлением, наглел и бередил, вносил беспокойство, ему навстречу распахивались ароматы и предчувствия. Закат пьяным ализарином расползался вдоль горизонта. Лучше бы он сразу свалился в наплывающий июльский вечер, но он еще шатался, неустойчиво балансировал между явью и небытием, вот-вот готовый уронить грузное свое тело за линию дня, чтобы помрачиться долгим и тяжким сном до трезвого рассвета.
Так шли дни. Мне было интересно со Стариком и не напряжно. За завтраком или обязательным вечерним чаем он говорил немного и насыщенно о литературе и живописи, о человеческих страстях и никогда о политике, порой внезапно уходил в себя и нес это свое отчуждение в кабинет, в мансарду, топая по ступенькам круто ввёрнутой в верхний этаж лестницы. Я чувствовала его заботу, внешне незаметную, но внятную. Я привязалась к обеим кошкам и псу, с аппетитом поглощала замысловатую, многотравную стряпню Старика и книги его обширной библиотеки. Благодаря быстро освоенному скорочтению мне удалось проглотить прустовских «Девушек в цвету», которые дали мне возможность изучать в подробностях, будто под микроскопом, сложные правила внешнего и внутреннего этикета и поразительную фальшь и витиеватость человеческих отношений европейцев конца XIX века. Мне казалось, к нашему времени люди стали искреннее, во всяком случае, те, с которыми приходилось общаться мне, и те, которых я узнавала на страницах Шолохова и Пастернака, Маркеса и Уайлдера. Когда же дело дошло до эссе Борхеса, я поняла, что внезапно и ощутимо повзрослела, что мне легко открываются загадки, о разрешении которых я совсем недавно не только не могла мечтать, но о существовании коих попросту не подозревала. Моя жизнь обрела объемность, о которой прежде я ничего или почти ничего не знала. Будто новая моя ипостась получила новую, соответствовавшую ей реальность. Я вжилась, вживилась в эту иную среду, в этот дом, в этот сад.
В своей дальней глубине сад впадал в прострацию, терял ориентиры дозволенного и позволял засорять себя сплетению колких дебрей облепихи над черным, еле движным ручьем, который мог отыскать только черный тибетский мастиф в надежде на выход из огражденных облепиховыми зарослями владений сада. Он прошуршивал низом, шевеля запущенные травы, погружал широкие лапы в гнилое дно ручья и брел вдоль него вниз по еле заметному течению, наслаждаясь его вязкостью и тухлой запашистостью.
Лето ластилось, льстило, ласкалось. Лето млело, парилось, истекало соком переспевающих ягод, плавилось, плелось устало и остывало, наконец, под послеобеденным дождем, покрывая мурашками оконные стекла, к вечеру подрагивало желейно, красно-смороденно, потом медленно засыпало. Лето липло, цеплялось и приставало жарой. Бесстыжие домогательства носили неоднозначный характер и в проявлениях своих, порой нежных и осторожных, порой коварных и неожиданных, были изобретательны – лето блудило: льнуло нежной дорожной пылью к ногам, проникая между пальцами и пузырясь под шагами ничего не подозревающих, босых стоп. Оно обволакивало теплыми одеялами тумана и баюкало, утешало остывающими вечерами, перед тем как расчехлить из облачности ночное небо и подглядеть за землей множеством внимательных глаз из черноты, уже отраженной круглым зеркалом луны. Внезапно лето отворачивалось, пряталось в похолодании и ветре: изменяло.

Чего только в жизни не бывает. Ординарец Наполеона подарил своей русской любовнице-служанке на память золотой луидор с профилем императора. А через полвека внучку той крепостной Марию Французову по иронии судьбы объявили внучкой… самого Бонапарта! И закружил Марию водоворот необыкновенных и опасных приключений: московская богемная жизнь, роман с красавцем князем Рокотовым, авантюра с организацией международного акционерного общества, побег из полиции…
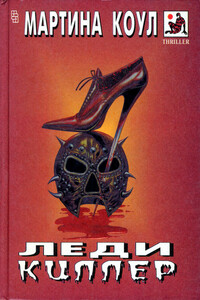
Джордж Маркхэм, сексуальный маньяк, убивает Мэнди, дочь миллионера Патрика Келли. Это не первое и не последнее убийство на его счету. Полиция с ног сбилась в поисках преступника. Силы закона и порядка и преступный мир сходятся в большой охоте на леди-киллера.В расследовании участвует женщина-детектив Кэйт Барроуз, офицер полиции, в которую влюбляется Патрик Келли. Их нежная, полная страсти любовь звучит диссонансом происходящим в романе событиям.
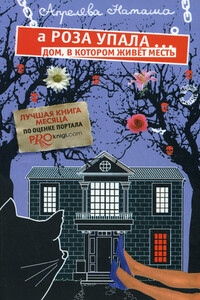
«Любимой мамочке от дочерей. Помним, скорбим, любим» — траурный венок с этой надписью на лентах получает больная, но вполне еще живая старуха.С появлением этого «гостинчика» в старый дом пробирается страх.Вскоре всем обитателям становится ясно, что кто-то пытается расправиться с большой и недружной семьей женщин с ботаническими именами.Когда одна из них заканчивает свое земное существование не совсем так, как она планировала, жильцы понимают, что в доме поселилась месть…
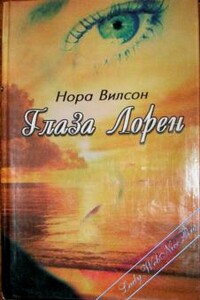
Глаза Лорен — не просто прекрасные синие глаза очаровательной молодой женщины. Они обладают уникальной способностью — видеть преступление, которое еще только должно совершиться. Глаза Лорен видят картину убийства ярко, красочно, со всеми подробностями — так, как если бы это происходило в кино. Необычный дар приносит героине массу неприятностей. Ей никто не верит, считают чуть ли не душевнобольной, с ней разрывает помолвку ее жених. И когда в очередной раз к Лорен приходит видение, она решает действовать самостоятельно, на свой страх и риск, и отправляется на другой конец страны, чтобы остановить убийцу.

Втянутая в преступную аферу, связанную с многомиллионным наследством, юная Тесс Алкотт, ловкая мошенница, знакомится с известным адвокатом Люком Мэнсфилдом и неожиданно узнает правду о своем прошлом. Охваченная противоречивыми чувствами, она не знает, на что решиться — или довести до конца опасную игру, или прислушаться к голосу своего сердца.